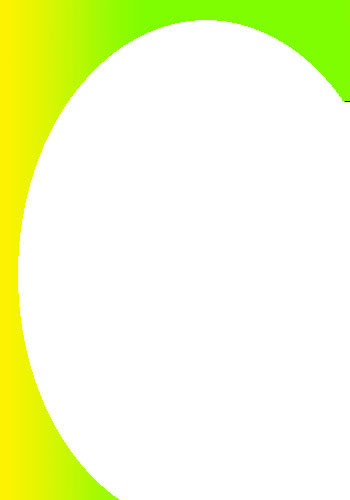
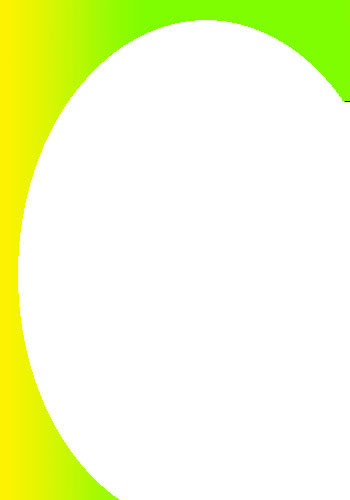

ЧЕХОВ И ЛЕВИТАНБолезнь. ЯлтаВ одном из тихих Московских переулков, в глубине двора, где росла сирень, до сих пор стоит двухэтажный флигель. Здесь Исаак Ильич создал свои последние великолепные картины. Известность художника росла с каждым годом. Она стала мировой. Его избрали членом различных художественных обществ. Как и Чехов, Левитан стал академиком. Однажды, как-то в сумерки, он выдвинул ящик бюро, достал уже пожелтевший диплом обычного неклассного художника, а проще сказать - учителя рисования, с которым когда-то изгнали его из училища живописи на Мясницкой. Профессора отомстили юноше, за то, что его учителем был буйный, прямой Саврасов. Они не поняли громадного таланта молодого живописца и считали его новаторские полотна незаконченными. Что ж, теперь Левитан руководил в этом самом училище пейзажной мастерской. Он сменил Саврасова и Поленова. Исаак Ильич долго держал в руках старый диплом… «Антон говорит про меня, что я удачливый неудачник. То же самое и про него можно сказать. Какие рассказы написаны, сколько опыта приобрёл, Чайка его по всей России пронеслась, шумя крыльями! Только бы работать! А врачи прячут в Ялту. Помирать. Как это ужасно!». (Исаак Левитан). Болезнь теперь надолго разлучала Чехова и Левитана. Последние годы жизни они виделись урывками. Друзья часто писали друг другу. «Дорогой мой Антон Павлович! Ты меня адски встревожил своим письмом. Что с тобой? Неужели в самом деле болезнь лёгких? Не ошибаются ли эскулапы? Они ведь все врут, не исключая даже и тебя. На зиму поедем на юг. Вместе мы скучать не будем. Не нужно ли денег? Ах, зачем ты болен, зачем это нужно? Тысячи праздных, гнусных людей пользуются великолепным здоровьем! Бессмыслица. Ну, да храни тебя Бог, мой милый, дорогой Антон. Завтра или послезавтра будут посланы тебе две тысячи рублей. Дорогой, убедительнейше прошу, не беспокойся денежными вопросами. Всё будет устроено. А ты сиди на юге и навёрстывай своё здоровье. Голубчик, если не хочется, не работай ничего, не утомляй себя. Дай руку. Слышишь, как крепко жму я её? Ты великолепно придумал – зимовать в Ялте! Чудак! Ты хочешь в Москву! Вот уж правда, то не ценишь, что имеешь. Ты спрашиваешь обо мне. Я то бодр, то лежу и тяжело дышу, как рыба без воды. Очень много работы. Затеянные мною картины уносят много сил. Только что вернулся из театра, где давали Чайку. Она производит дивное впечатление. Как бы тебе сказать, я ещё не совсем очухался, но знаю одно - я пережил высокохудожест-венные минуты. Хорошо, очень хорошо. Устаю от преподавания в училище, устаю от работ, бросить которые в то же время не могу, как говорит твой Тригорин, ибо всякий художник - крепостной». Ялта. Чехову. Из Байдара. 24 декабря 1899 года. «Они встретились постаревшие. Оба ходили медленно, с трудом опираясь на палки. Брат Антон и Исаак, присев где-нибудь в безветренном уголке на солнышке, часами вспоминали о Москве: о рождественском свежем снеге, о пирожках с лучком, перцем, с собачьим сердцем, которые готовились в трактире на Моховой, о лучезарных бабкинских днях, когда все мы были молоды. Как-то вечером Левитан сидел в кресле против камина, Антон Павлович по обыкновению ходил взад и вперёд по кабинету, говорил о том, как ему скучно жить в Ялте без русской северной природы. Левитан, слушая его, обратился ко мне: - Маша, принесите, пожалуйста, мне картону. Я принесла. Левитан вырезал необходимую форму, вставил её в камин и буквально в полчаса написал пейзаж Стога Сена. Луг, копны, вдали лес. Надо всем царит луна. Природа в ту странную, особенную зиму была какой-то удивительно красивой. Левитану было очень плохо. Он задыхался. С трудом передвигаясь, он всё-таки хотел непременно подняться в горы. - Мне так хочется туда! Выше, где воздух легче, где можно дышать! Но приходилось поминутно останавливаться. Левитан сейчас же заговаривал о смерти. - Мария, как не хочется умирать, как страшно умирать и как болит сердце! Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной Ты катишь волны голубые… Художник, всем говоривший о близкой смерти, о своих самых лучших картинах, которые ему, как видно, уже не удастся написать, за новогодним столом приободрился. Усталое лицо его вдруг вспыхнуло, и он встал с бокалом в руке и сказал, воодушевляясь: - Надо жить! И жить красиво. Надо побороть и забыть свои страдания, надо пользоваться жизнью, её светом, её радостью, как блеском солнечного дня! Мы ещё успеем сойти в могилу, а сейчас - за работу, друзья! Подымем стаканы! Содвинем их разом! Да здравствует музы, Да здравствует разум!...» (Мария Чехова). Ему оставалось жить полгода. Однажды, это было весной, в московскую мастерскую Левитана вошёл приехавший на несколько дней из Ялты Антон Павлович. Мастерская оказалась пуста. Чехов заглянул в дверь, ведущую в жилые комнаты, и позвал хозяина. На мольберте посреди круглой мастерской стояла громадная картина Озеро. Антон Павлович придвинул кресло, сел, протёр пенсне. Синяя вода, подёрнутая крупной рябью, дрожала. Чуть колебался золотистый тростник, медленно проплывали пронизанные солнцем тугие белые облака. Вдали на берегу стояли оранжевые берёзы, белела церковь. Антон Павлович зябко повёл плечами и заулыбался. «Сколько праздника и нарядности, сколько здоровья в этом просторе! Каждый из русских людей где-то когда-то видел такое озеро. Последние тучи рассеянной бури, земля освежилась, и буря промчалась… Так мало нот и так много музыки! Прямо не верится, что эту жизнерадостную картину создал человек, сердце у которого не стучит, а дует. Да, в сравнении с тем, что я видел в Париже, Левитан король. - Что ж ты забыл меня, мой Антоних! А я тут вот лежу, совсем плохо. Брожу редко-редко, доктора не велят, съешь их волки! Смотри, какой большой холст я начал в твоё отсутствие. - Начал? Это ты называешь началом? Я думал, картина ждёт отправки на выставку! - Не-е-ет, работы ещё невпроворот. Все мои прежние вещи ничего не стоили, а эта - заветная. Дай только выздороветь, я совсем иначе буду писать: смело, сильно, солнечно! Теперь-то уж я знаю, как писать. Первоначально я хотел назвать эту картину Русью. Русь - в одном художественном образе вся наша великолепная, могучая страна, плод многолетних поисков, моё понимание Родины. Но я отказался от такого названия. Я лучше поищу в другой вещи, это ещё надо найти! Образ прекрасной, суровой Родины… - Помнишь, как в Ялте под Новый Год ты говорил, что напишешь о том, какая красивая должна быть жизнь, что когда не спится, то думаешь: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты и жить надо иначе, чем мы живём!». Помнишь, говорил? - Да, да, да, я сейчас как раз доработаю одну вещицу. - Мы увидим небо в алмазах! Только ты, Антон, не совсем прав. Мы-то уж наверняка не… не увидим… - Как знать, как знать… Послушай, не лучше было б тебе лечь? - Да, да, да, да, с тех пор, как я простудился в Химках, стал совсем дохлый. Мы зацветающие дубы писали, как при Саврасове, а когда дуб цветёт, то всегда холодно. Знаешь, на днях питомцы мои письмо прислали. Пишут, что работают без меня, старательно работают, а вокруг дачи грачи поселились и никому не дают покоя, кричат: «Где Левитан? Где Исаак Ильич?». Мне как-то сразу и полегчало. Передал, что как только встану, приеду. - Да-а-а… - И чтоб не надоедали грачи, а то Левитан не только приедет, но и ружьё прихватит. Где это письмо-то? Оно ведь от моих детей бородатых… Я лучше стал понимать нашу молодежь, что шумит на всех перекрёстках, свергает старых идолов, новых воздвигает… Так и должно быть! Опережай учителя, иначе искусство захиреет, спор между молодым и старым всегда труден, неизбежен и необходим. Так было всегда и так будет! Как ты думаешь, Антон, Антон, в те времена, под небом в алмазах, найдётся местечко для нас? - Трудно сказать… Мы любили жизнь, прославляли её в меру своих сил и показывали людям: «Смотрите, вот, вот такой она будет лучше!», – значит должно б найтись местечко… - Да, спасибо… Теперь, ты меня извини, я лягу. Не уходи, посиди со мной. Мне всё представляется одно и то же, одно и то же: сырые поляны и над ними распустившиеся могучие дубы… |