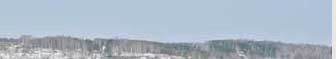Воспоминания сестры Марины Цветаевой - Анастасии
 Летами мы жили в Тарусе, куда ездили всем домом с Курского вокзала до Ивановской станции (Тарусской) и оттуда семнадцать верст по невероятной (обрывами, то глинистой, с глубокими колеями, то песчаной) дороге- до парома (позже- до станции Ока и оттуда пароходом). Летами мы жили в Тарусе, куда ездили всем домом с Курского вокзала до Ивановской станции (Тарусской) и оттуда семнадцать верст по невероятной (обрывами, то глинистой, с глубокими колеями, то песчаной) дороге- до парома (позже- до станции Ока и оттуда пароходом).
За Окой на холмах виднелась Таруса. Также рано запомнилось слово «Поленово», неотделимое от на закате мерцавшей розовым огоньком поленовской церковки села Бёхова, за Окой. Там жил папин знакомый художник, Василий Дмитриевич Поленов.
Нашу поездку к нему помню глуше, чем, вероятно, помнила Марина, которой в то время было лет восемь. Помню волнение от чужой, неведомой нам жизни, дома; волнение от лиц, имен, голосов большой семьи (мы и в Москве жили обособленно, редко бывали в гостях), от запахов и вещей чужих, влекущих комнат, - и поляны почти такие же волшебные, как вокруг нашего лесного обиталища за Тарусой, шум высоких крон деревьев, смену солнца и луны над ними и серебро Оки за ветвями. Из деревянного шкафчика на повороте лестницы полный, полуседой, добрый Василий Дмитриевич вынимал нам и дарил- каждому по одному - маленькие этюды (они стояли стоймя, как книги). Помню Маришу и Олю Поленовых (наших с Мусей однолеток) и маленькую рыжекудрую красавицу Наташу.
 Праздник. Гости приглашены принять участие в клейке фонарей из цветной бумаги - для иллюминации - на приз. Жюри - Василий Дмитриевич. Гирлянды картинок и бумажных фонарей развешаны меж деревьев; цветные луны, полумесяцы, овалы, квадраты со светящимися узорами и силуэтами. Праздник. Гости приглашены принять участие в клейке фонарей из цветной бумаги - для иллюминации - на приз. Жюри - Василий Дмитриевич. Гирлянды картинок и бумажных фонарей развешаны меж деревьев; цветные луны, полумесяцы, овалы, квадраты со светящимися узорами и силуэтами.
Мамин фонарь получил первый приз. Если Марина нигде не упомянула подробней о том, что было изображено на нем, - я в тумане памяти вижу силуэт женщины на фоне каких-то сияющих гор, лесов, рек.
К часу иллюминации я была сонная; цветные ракеты, золотистые, вертящееся и рассыпающееся колесо смешивались с ветвями осенних берез, зажигая их расплавленным заревом волшебного ночного пожара. Распахнутые в ночь окна с высунувшимися головами гостей и огромный костер, горевший вслед нам, отъезжающим, кидает свет на поляны, купы дерев, великаньи корни сосен и круто изгибавшийся, колеистый, темневший путь. Качало и трясло, как море, колеса тарахтели, спускались, проваливались в шумевшую ветками ночь. Я еще слышала Мусин голос и мамин ответ, но слова падали мягко, как в воду, - я спала.
Едем шагом, в гору - тяжко,
В сонном поле - гром...
Ася, слышишь? Спит, бедняжка,
Проспала паром!
Впереди Ока блеснула
Жидким серебром...
Ася глазки разомкнула,
- «Подавай паром!»
 Таруса. Маленький городок на холмах, поросших березами, на левом берегу Оки. Яблочные и ягодные сады. Собор на площади (там же бывает ярмарка) и красная с белым Воскресенская церковь - на крутом холме. Это - на полпути к даче, где мы живем; на холме, пониже, часовенка, точь-в-точь как на картине «Над вечным покоем». Таруса. Маленький городок на холмах, поросших березами, на левом берегу Оки. Яблочные и ягодные сады. Собор на площади (там же бывает ярмарка) и красная с белым Воскресенская церковь - на крутом холме. Это - на полпути к даче, где мы живем; на холме, пониже, часовенка, точь-в-точь как на картине «Над вечным покоем».
Дороги - песчаные и кремнистые; разлив тропинок. Идя домой от Тети или Добротворских (два родных дома в Тарусе), нагруженные яблоками, сливами, вишнями и крыжовником, мы подбираем сверкающие, как от папиного Музея, камешки. Но папины - гладкие, горят, мраморные, а эти - в них, как звезды, вкраплены горящие искры. Считаем, у кого больше и у кого больше горения на острых кусках камней. Мама тоже собирает.
По дороге - пересекает ее ручей - родниковая вода: «как хрусталь». А о камнях мама говорит: «кристалл» (это - разное, но от обоих этих слов - холодок счастья в груди).
Вечер. Тот конец Оки (мы идем высоко над нею) - в синей дымке. Небо над водой лиловое, от месяца - струи серебра. А другой конец речной ленты - в ржавом золоте, в золотых перьях облаков; и это еще беспокойное, но уже успокаивающееся закатное небо опрокинуто в зелено-алом, быстро гаснущем лоне вод... Мы вертим головы то назад, то вперед, - нельзя оторваться и невозможно решить, что лучше. И мы уже делим: Мусе - этот, синий, с месяцем конец Оки, мне - тот, золотой, с закатом.
На почти зеркальной полоске воды посередине - силуэт лодочки. И с нее, далью потушенный, как вечерняя синева позади, голос доносится: «Чудный месяц плывет над рекою...» Каждый раз, как этот мотив начинается (и еще мамино «Не для меня придет весна»), в носу начинает щипать, как от фруктовой шипучки. Я знаю, что у Муси - тоже, и я боюсь на нее посмотреть, чтобы не заплакать.
«Чуд-ный ме-сяц плы-вет на-а-ад ре-ко-ю...»
Когда мы подходим к подъему на нашу длинную гору, она темная, как дубрава у замка Рингштеттена из «Ундины». Жутко. На болоте, далеко, кричит коростель. И так свежо вдруг стало...
 Май, июнь, июль, август, часть сентября, - сколько дней, сколько утр в нашем гнезде меж тополей, берез, ив, кустов бузины и черемухи - столь густой чаще древесной, что прорубали ее, чтоб с балкона виднелась Ока, протекавшая под горой влево к Серпухову, Бёхову, справа - от Велегова, Алексина. Май, июнь, июль, август, часть сентября, - сколько дней, сколько утр в нашем гнезде меж тополей, берез, ив, кустов бузины и черемухи - столь густой чаще древесной, что прорубали ее, чтоб с балкона виднелась Ока, протекавшая под горой влево к Серпухову, Бёхову, справа - от Велегова, Алексина.
Дачу мы снимали у города, много лет подряд.
Простой серый дощатый дом под ржавой железной крышей. Лесенка с нижнего балкона сходит прямо в сирень. Столбы качелей; старая скамья под огромной ивой еле видна - так густо кругом. В высоком плетне - калитка на дорогу. Если встать лицом к Оке, влево грядки, за ними - малина, смородина и крыжовник, за домом крокетная площадка.
Две террасы (одна над другой, столбиком); балюстрада нашей детской доверху продолжена перекладинами, чтобы мы не упали. Перед террасами - площадка меж четырех тополей; между двух из них - мои детские, стульчиком, с загородками качели. А настоящие качели между четырех орешников, носящих наши четыре имени: Лёра, Андрюша, Муся и Ася.
Внизу, под дачей, - пески, Ока, луг. Позади дачи - «большая дорога» - молодым леском выход в поле. Справа от дачи, если лицом к Оке, - «старый сад» - поляны одичалых кислейших яблок. Мы, дети, их подбираем, режем, нижем на нитки и сушим. Есть их - нельзя. Рот сводит! Вся усадьба, некогда звавшаяся «Песочное», часть когда-то большого имения. Деревня Пачёво - далеко за полем, куда ведет «большая дорога» (в отличие от сети троп, бредущих по лесу и кустарнику). Пачёвская долина - волшебные дубравы с высохшим руслом речки- вожделенная цель прогулки, почти не по силам мне (Муся одолевает все). Туда можно полем и через хвойный скат и заколдованную Пачёвскую долину, и тогда мимо хижины угольщика и высоких лиловых цветов (стержень-- дудка), мимо огромных сосен и лугом - домой; или, начав с луга, сосен, угольщиков и дудок, - в колдовскую тишь Пачёвской долины (деревня где-то вверху, за дубравами) и по сосновому холму, вверх, полем - домой. Мы знаем, «Лесной царь» - «Кто скачет, кто мчится» - было в Пачёвской долине.
Клеенка стола, белые чашки с голубым ободком, кувшины сирени, жасмина, сливки, самовар, уют. Гудки парохода. Деревья, грибы, купанье, грозы. Жара. И деревья, деревья...
 Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить. Водила нас мать и сама ходила в холстинковых платьях, в дождь в дешевых, с «ушами», на резинке, по-деревенски, башмаках. Ни Муся, ни я не любили «хороших» платьев и, надевая их - в гости, злились. Но ради того, чтобы идти к Тете (Тьо), - мы их терпели. Шли туда обычно семьей или мама с нами, тремя младшими детьми. Играть, шуметь, бегать, драться - у Тети было нельзя, и за столом надо было сидеть очень чинно. Но весь быт Тети был так уютен, наряден, красив, особен, что мы любили ходить к ней. В нашей даче, кроме рояля, все было почти по-деревенски просто. У Тети в доме были ковры, чехлы на мягкой мебели, дорогие сервизы, занавесы, венский шкаф - часы, игравшие, как оркестр. За столом подавала прислуга в белой наколке, тарелки были нагретые, перед прибором каждого из нас ждала коробка шоколадных конфет с «серебряными» или «золотыми» щипчиками. Бульон - в толстых чашках; для нас жарили цыплят. Чай пили на веранде с резными деревянными украшениями, на белоснежной скатерти. Нас ждали отборные яблоки. Сад у Тети был расчищен; клумбы с цветами, песок, большой плодовый сад, сирень, липовая аллея, кусты ягод. Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить. Водила нас мать и сама ходила в холстинковых платьях, в дождь в дешевых, с «ушами», на резинке, по-деревенски, башмаках. Ни Муся, ни я не любили «хороших» платьев и, надевая их - в гости, злились. Но ради того, чтобы идти к Тете (Тьо), - мы их терпели. Шли туда обычно семьей или мама с нами, тремя младшими детьми. Играть, шуметь, бегать, драться - у Тети было нельзя, и за столом надо было сидеть очень чинно. Но весь быт Тети был так уютен, наряден, красив, особен, что мы любили ходить к ней. В нашей даче, кроме рояля, все было почти по-деревенски просто. У Тети в доме были ковры, чехлы на мягкой мебели, дорогие сервизы, занавесы, венский шкаф - часы, игравшие, как оркестр. За столом подавала прислуга в белой наколке, тарелки были нагретые, перед прибором каждого из нас ждала коробка шоколадных конфет с «серебряными» или «золотыми» щипчиками. Бульон - в толстых чашках; для нас жарили цыплят. Чай пили на веранде с резными деревянными украшениями, на белоснежной скатерти. Нас ждали отборные яблоки. Сад у Тети был расчищен; клумбы с цветами, песок, большой плодовый сад, сирень, липовая аллея, кусты ягод.
 Но самой большой достопримечательностью, важней всего этого и синих с золотом бокалов с мятной водой, подаваемых за столом - полоскать рот после еды; важнее вида на Оку с крыши дома, куда вела лестница; даже важнее белого пса Лебеди (как его звала Тетя) и трех кошек тигровых - Мити, Миши и Катиши - и вывезенного из Крыма пестрого кота le Tartare - была сама Тьо: зиму и лето в белых фланелевых балахонах с оборками, маленькая, толстая, с подобием (крошечного!) шиньона, с черной наколкой на седеющей голове, в дедушкиных черепаховых очках на кончике носа (что она не видит в них, до нас не доходило; носила, видимо, от пиетета к памяти дедушки «Alxinge», как она выговаривала сокращенно «Александр Данилович»). Но самой большой достопримечательностью, важней всего этого и синих с золотом бокалов с мятной водой, подаваемых за столом - полоскать рот после еды; важнее вида на Оку с крыши дома, куда вела лестница; даже важнее белого пса Лебеди (как его звала Тетя) и трех кошек тигровых - Мити, Миши и Катиши - и вывезенного из Крыма пестрого кота le Tartare - была сама Тьо: зиму и лето в белых фланелевых балахонах с оборками, маленькая, толстая, с подобием (крошечного!) шиньона, с черной наколкой на седеющей голове, в дедушкиных черепаховых очках на кончике носа (что она не видит в них, до нас не доходило; носила, видимо, от пиетета к памяти дедушки «Alxinge», как она выговаривала сокращенно «Александр Данилович»).
Все в доме было полно дедушкой; в глубокой полутемной спальне с лампадой его увеличенный портрет в пальто и шляпе, с сигарой в руке (больной уже, худой, старый), - его книги, его картины, его карманные часы, его фонограф, в котором на одном из валиков, белых, похожих на его манжеты, после чьего-то пения раздавался - шипеньем и рокотом - голос дедушки: «Браво... браво...»
Тьо душила нас в объятиях, закармливала, задаривала и без конца рассказывала о прошлом. Мы уходили в него с головой и расставаться было тяжело, хоть и шли на свою свободу. Мусе и мне было обидно, что у Добротворских к чудачествам и расточительности Тьо относились с добродушной иронией.
Со стороны матери у нас не было, кроме дедушки и его сестры, никаких родных (где-то в Польше Бернацкие, но мы ничего не знали о них). Со стороны же отца мы в Тарусе знали Добротворских, земского тарусского врача Ивана Зиновьевича (дядю Ваню), высокого и немного по-доброму насмешливого; жену его Елену Александровну, папину двоюродную сестру, полную, седую, улыбавшуюся нам, но с каким-то приглядыванием, от которого нам - Мусе и мне - было не по себе. Она очень любила Лёру, Андрюшу; маму и нас - не так.

Их дом, наверху главной, сходившей к собору, улицы, которая звалась Калужской, - большой, серый, с резными украшениями окон, с балконами, уступами железной крыши, с цветными стеклами окон парадного хода - был уютен, приятен, гостеприимен. Густой, заросший сад, липовая аллея, площадка крокета, гамак. Поляны яблонь, груш, слив, ягодник, вишенник, веранда, где вечно кипел на столе самовар, осы, жужжащие над вазочками с разнородным вареньем и медом, сладкие пироги, ватрушки и особенно любимые ржаные сдобные лепешки, которые пекла на сметане пожилая ласковая Катя, многолетняя помощница Елены Александровны. Дом был с мезонином, с особыми запахами, с кафельными печами, лежанками, со звонким боем часов, с расстроенным старинным фортепьяно, на котором никто не играл. Иван Зиновьевич, добрый гений уезда, едущий в любую погоду к больным, крупный, уютный, с говором на «о», с всегда прямо глядящими синими глазами, сходит по скрипучим ступенькам на двор, где его ждет лошадь. В ослепительной жаре пряно пахнет ромашкой. Гуси и утки отдыхают в тени под сиреневыми кустами. Огромный рыжий пес Барон, гроза входящих во Двор, громыхает цепью...
У Добротворских была большая лодка-ялик (у нас - маленькая плоскодонная), и - всегда нежданно - они заезжали за нами на нашу дачу. Причаливали, кто-нибудь шел к нам вверх по крутой, заросшей березами и кустами, горе. Или просто звали, криком, с реки.
Ясные дни- светлые вечера- детство...- неторопливо идущее время - как хорошо это было, каким маленьким земным раем это предстает мне теперь.
 ...И была еще- радуга! Она наставала- внезапно, появлялась нежданно, и в ее незваности, в забвенье о ней была тайна. Она взносилась над московским двором и ниспадала в верхушки тарусского леса, всегда неполная, склоненностью своего отрезка лишь намекая на то, какая она вся, но, кажется, всему детству не удалось ее увидеть в ее совершенстве. А если на миг ее плавный верх венчал вечерние облака, то следующее мгновенье затуманивало ее дымным золотом тучи, и виденье таяло в детской душе, как утихающий звук песни. Но если кто-то отваживался обуздать восхищение, измерить радугу любопытствующим глазом, запом-н-и-т-ь ее цвета (то, что не удалось в тот раз словить, как лиловый цвет ее верхней дуги, наружной, переходит в розовость, та - в огненность, пламенность - в желтизну, и как желтое, слившись с встречающей синевой, становится сияющей зеленью), - ум переставал понимать, синева вдруг оказывалась тонущей в первично лиловом, которое было сверху дуги, а очутилось снизу; в глазах, в голове делалось круженье бессилья, и начать снова попытку измерить сияние не было сил. Ты стоял, потерявшись, под небом, которое плыло и менялось, а радуга блаженно покоилась в своей невесомости, и безукоризненная правильность ее склоняюще ...И была еще- радуга! Она наставала- внезапно, появлялась нежданно, и в ее незваности, в забвенье о ней была тайна. Она взносилась над московским двором и ниспадала в верхушки тарусского леса, всегда неполная, склоненностью своего отрезка лишь намекая на то, какая она вся, но, кажется, всему детству не удалось ее увидеть в ее совершенстве. А если на миг ее плавный верх венчал вечерние облака, то следующее мгновенье затуманивало ее дымным золотом тучи, и виденье таяло в детской душе, как утихающий звук песни. Но если кто-то отваживался обуздать восхищение, измерить радугу любопытствующим глазом, запом-н-и-т-ь ее цвета (то, что не удалось в тот раз словить, как лиловый цвет ее верхней дуги, наружной, переходит в розовость, та - в огненность, пламенность - в желтизну, и как желтое, слившись с встречающей синевой, становится сияющей зеленью), - ум переставал понимать, синева вдруг оказывалась тонущей в первично лиловом, которое было сверху дуги, а очутилось снизу; в глазах, в голове делалось круженье бессилья, и начать снова попытку измерить сияние не было сил. Ты стоял, потерявшись, под небом, которое плыло и менялось, а радуга блаженно покоилась в своей невесомости, и безукоризненная правильность ее склоняюще
Но была еще добавочная радость в появлении радуги: вера в няней сказанное - радуга означает, что больше не будет дождя. Мы, те же мы, которые прыгали под дождем, наслаждаясь им, как сухая земля под нами, встречали радугу как сообщники и кричали в нее пронзительно, как спуская с лука стрелу: «Не будет больше дождя, не будет!» Но уже нет и радуги- где же она была? - как слабое эхо Пачёвской долины, еще розовело, синело легкой струей над елью старого сада, но уже не было ни сиянья, ни очертания сиянья, одна память сердца и глаз о еще раз утраченном - и когда же оно придет вновь?..
...А пока мы наслаждались плодами лета- у бедного отца нашего шла страда: в уральских ломках обнаруживались неудачи, добываемые с великим трудом залежи камня часто оказывались в трещинах или с песчаными прослойками, непригодными, приходилось относить их ручным способом в сторону и заново углубляться за чистой породой. В таких исканиях шли иногда недели, а летнее время, в этом труде драгоценное, проходило... Но отец духом не падал, твердо веря в начатое дело. Отголоски этих забот доходили до нас из постоянных деловых бесед родителей.
Год 1901
В эту весну 1901 года мы особенно рано выехали на старую тарусскую дачу. Был апрель. Деревья рощ, лесов и пригорков стояли легкой зеленоватой смутой (вдали), унизанные зелеными бусинами (вблизи). И щебет птиц был голосом этих рассыпанных по ветвям ожерелий, зеленых, пронизанных солнцем...
 Тарантасы, ныряя из колеи в колею, с ухаба на ухаб, по песчаным откосам, щедро сыпали звенящую, разбивающуюся трель бубенцов, оглашая окрестность счастьем пути, ожиданий, приезда! Тарантасы, ныряя из колеи в колею, с ухаба на ухаб, по песчаным откосам, щедро сыпали звенящую, разбивающуюся трель бубенцов, оглашая окрестность счастьем пути, ожиданий, приезда!
«Едем, едем!»- заливчато дребезжали они, все ближе и ближе к заветным местам, и дух захватывало от краешка далекого поворота, за которым откроется - вот сейчас, вот сейчас! - знакомый вожделенный ландшафт. Глаза впивались. Голос пресекался. Ноги рвались бежать, перегнать коренника и пристяжную, сердце билось, как птица, где-то под горлом - и память о том, что было год назад, и два, и давно, делала счастье таким прочным, как вросшие в землю деревья, кивавшие нам со всех бугров, тянувшие нам зеленые апрельские руки.
Но смутно мне открывалась особая стать Мусиного чувства, не моя! Жажда отчуждения ее радости от других, властная жадность встречать и любить все - одной: ее зоркое знание, что это все принадлежит одной ей, ей, ей, - больше, чем всем, ревность к тому, чтобы другой (особенно я, на нее похожая) любил бы деревья - луга - путь - весну - так же, как она. Тень враждебности падала от ее обладания - книгами, музыкой, природой - на тех (на меня), кто похоже чувствует. Движение оттолкнуть, заслонить, завладеть безраздельно, ни с кем не делить... быть единственной и первой - во всем!
Мама улыбается. В ее улыбке и жалобное, и удалое. Лёра дружески кивает нам. Андрюша - в другом тарантасе, с новой фрейлейн - пожилой; у нее квадратные щеки и странное имя - Преториус.
Колеса тяжело въезжают в светлый речной песок; горы кончились, потянулись речные кусты, повеяло сыростью. Она с нами, невидимая еще, но уже все помнящая, и когда мы уже забыли леса и холмы, предали их, безраздельно предались ей - когда от внезапной прохлады, от водного ветра, рвущего волосы, шляпы - с голов, лицо опьяненно плывет ей навстречу, - тогда, вдруг (о чудное слово, опороченное литераторами), как ни жди, как ни дыши, как ни нюхай, - вдруг взблескивало вдали узкой, узчайшей полоской, непомерным, меж землей и воздухом, блеском, и он начинал расплескиваться- и там, за кустами, и там... И дикими от упоения голосами мы кричали: «Ока! Ока...»
И тогда - на другом уж, калужском берегу появлялись очертания Тарусы: домики, и сады, и две церкви: справа - низко, прямо над рекой - собор; круто наверху, на холме, слева - Воскресенская церковь. Но уж и их мы не видели, потому что кидались в спор старших, как ехать - низом (холмами, над Окой, влево) или верхом (вправо, через Соборную площадь, вверх по горе, заезжая к Добротворским, в объезд городка, рощами, полем и мимо орехового оврага, по «большой дороге», подъезжая к даче - сзади, а не от реки). Старшим было легко решить: где с грузом багажа легче проехать. Но - нам! Выбрать! Из двух драгоценностей! И когда давно лошади уже бежали, звеня бубенцами о нас, по верхней - или по нижней - дороге и никто нас не слушал, мы все еще вслух жалели о пути, которым н е едем, потому что сердце вмещало оба, не отдавало!
Из-за старого сада, из глуши надлуговых рощ - сказочный звук: кукушка! Как год назад - и как два, - как давно, как всегда... Я считаю. Не птичий, совсем другой звук! Молоточек легко роняет его - настойчивый, и всегда чуть прощальный, двойным легким стуком - в воздух, синий, и теплый, и которому нет лет.
Роясь под нижним балконом, я, не веря глазам, нашла свой потерянный, прошлогодний мяч (не очень большой, серый). О нем было столько слез! Кочерга долго гоняла его под домом, в отдушину... не выкатила! Остался там! Не верю счастью: он тут! Чуть сырой, но весь целый, круглый, тугой, мой! Не лопнул! Он мок, мерз, один, целую зиму!.. Сам выкатился? Я прижала и глажу его, нюхаю (оглядываюсь - никто не видит?), пробую чуть на язык... Неужели может быть большее счастье? Не может!.. «Де-ти, где вы? - Лёрин голос из окна. - Ужинать!» По клавишам, перегоняя друг друга, мамины руки. Мама играет! Ноги бегут вверх по балконной лестнице - сами собой.
 Из Москвы приехавший папа огорченно рассказывал маме, что время идет, а мрамор все лежит в горах Урала, и никакие телеграммы Музея не сдвигают его с вековечного ложа, недостаточное знание местных условий, нехватка средств перевозки явились новой помехой. Вертясь возле мамы, я слушала эти не совсем понятные слова, но не решалась спросить. С папой приехал муж маминой подруги детства Тони, художник Юхневич, увековечить нашу любимую дачу в ее густой зелени. Он написал ее маслом, сбоку, на фоне деревьев. Меня заставили постоять вдали, в красном платьице. Из Москвы приехавший папа огорченно рассказывал маме, что время идет, а мрамор все лежит в горах Урала, и никакие телеграммы Музея не сдвигают его с вековечного ложа, недостаточное знание местных условий, нехватка средств перевозки явились новой помехой. Вертясь возле мамы, я слушала эти не совсем понятные слова, но не решалась спросить. С папой приехал муж маминой подруги детства Тони, художник Юхневич, увековечить нашу любимую дачу в ее густой зелени. Он написал ее маслом, сбоку, на фоне деревьев. Меня заставили постоять вдали, в красном платьице.
В доме Тьо уют, шедший от неё, от старинных, устарелых ее привычек, от раз навсегда заведенного, комфортабельного ее быта, чинного, хоть и праздничного, - и праздничного, несмотря на порой чрезмерную нам, детям, чинность, уют, на который дети так падки (как кошки), искупали все запреты и все замечания, сыпавшиеся на нас, как из рога изобилия. Лейтмотив же их был один: «Мунечка, не будь так резка!», «Анечка, не будь так назойлива!». Мусино гневное своеволие, как и моя склонность всюду лезть, все спрашивать и жаловаться на грубость со мной старших детей - вошли в поговорку. Тьо не одобряла многое в нашем воспитании, считая его вольным, но, нежно любя маму и видя сложности ее жизни, извиняла ей.
На диванчике под дедушкиным портретом - серый призрак его, с худым, уже тающим в памяти лицом, с сигарой в руке, уходил в сгущающиеся сумерки полутемной комнаты - Тьо рассказывала нам и Преториус о прошлом. В эти часы глаза Муси становились совсем другие - светлые, широко раскрытые; они были печальны и тихи, и я знала слово, которым звалось то, что в них жило и томилось: слово «тоска»... как облако, оно обнимало нас, и не было тоске утешенья- потому что безутешна была даль, в которую ушло детство Тети, у синего Невшательского озера, и подруга ее юности Лоор, и мамино детство, и дедушка, - и в которую уйдет Тьо и когда-нибудь мы...
И когда за нами приходили ушедшие к Добротворским старшие и надо было идти домой - приходилось сделать усилие, чтобы вернуться ко дню.
И был еще один тарусский мирок, делавший лето зеленей, жару - жарче; сад на Воскресенской горе, где жили «Кирилловны». Их было всего две: Мария, повыше, и Аксинья, потолще. Но вокруг них жило еще много женщин в ситцевых платьях и белых платочках, и звали их люди «хлыстовки». Они жили в ягодном, густом саду и были шумно-приветливы: угощали ягодами, брали на руки, ласкали, певуче приговаривая и веселя, и жизнь сразу становилась певучей, как их голоса, веселой, как хоровод, и немножко хмельной, как когда в праздник дадут капельку вина в рюмке.
Смутно мы слышали, что хлыстовки как-то особенно верят в Бога, но когда раз, придя из Тарусы в рядом с нами простиравшийся «старый сад», они там натрясли себе уйму одичавших яблок, - в нашу тягу к хлыстовкам, таким ласковым, замешалось у Марины - чувство удивленья и интереса, у меня - смутного осуждения. Они были старинно-хозяйственны, гостеприимны. Они отличали Мусю за ее ум и крутой нрав; особенно любила ее молодая Маша, некрасивая, говорливая. И было вокруг них - колдовство.
Но все это - и радушный, веселый дом Добротворских, и мирок Тьо на фоне озер, Альп и заветных воспоминаний, и хлыстовки, их жаркий быт, чуть жутковатый, - все тонуло в счастье вернуться домой, в наше лесное гнездо, так странно звавшееся «дачей», в музыку, пение, сирень и жасмин, в тополя, ивы, березы, в уже расцветшие над ними звезды.
По утрам Муся играла на рояле. Она делала большие успехи. Мама гордилась ею. Но в чтении у них выходили неприятности. Муся стремилась читать книги взрослых, мамой ей запрещенные. Развита она была не по годам.
Вечерами, за роялем, пели. Мамин голос был торжественней, и была в нем, в русских песнях, - удаль и печаль. В Лёрином - звучало иное, грациозное веселье, жившее в доме до нас, при первой папиной жене, ее маме. Читая Маринино «Мать и музыка», не могу не возразить на то, что она там пишет о Лёре: Марина очень любила Лёру и в детстве и в отрочестве. Разойдясь с Лёрой, позднее, она невзлюбила в с е в Лёре и, не считаясь с явью, перенесла свое позднейшее чувство на - детство, тем исказив быль. Такое Марине было свойственно по ее своеволию - с былью она не считалась, создавая свою. (Мама в ее писаниях кажется мне тоже упрощенной, схематичной.)
В то лето запомнилась, кроме повторных далеких прогулок в Пачёво, наша частая ближняя прогулка «на пеньки», тропинкой, молодым леском, меж полян, со срубленными деревьями, к выходу на луг. Мама и мы ложились на траву, говорили бог весть о чем. Это было что-то сходное с зимним «курлык».
 По Оке плыли плоты. Вечерами на них горели огни. Плотогоны порой появлялись на берегу; тихие рыбаки, жившие на берегу по пути к Тарусе, да и многие тарусские не любили их, боялись; они пили водку и при случае могли и пугнуть озорной удалью мирных людей. По Оке плыли плоты. Вечерами на них горели огни. Плотогоны порой появлялись на берегу; тихие рыбаки, жившие на берегу по пути к Тарусе, да и многие тарусские не любили их, боялись; они пили водку и при случае могли и пугнуть озорной удалью мирных людей.
Этим летом появился новый пароход, вдобавок к старым, «Ласточка» и «Екатерина», - «Иван Цыпулин».
Он гудел иначе, бил воду колесами круче. В страхе пропустить волны, мы звали мать бежать с горы купаться, узнавая еще у поворота от Алексина и Велегова- его гудок. От него шли большие волны. Муся плавать научилась быстро, воды не боялась; мама, плававшая отлично, радовалась ее смелости. Ее имя - Марина - обязывало. Мы знали, что Марина значит - Морская, как и то, что меня мать назвала Асей (Анастасия - Воскресшая) из-за тургеневской «Аси» - «Прочтете поздней!».
Но раз отличилась и я. «Плыви!» - сказала мать, держа меня, шестилетнюю, на вытянутых руках. Я не поняла; подражая ей, бросилась с ее рук - в воду; мутная зелень - в глазах; я захлебнулась, потеряла сознание. Мать, в ужасе, бросилась вперед, за исчезнувшей мной, и успела схватить меня за пятку. С тех ли пор начался мой страх воды?
Иногда подолгу лил дождь. Тогда наступала новая жизнь: мы начинали видеть дом. Еще вчера он был сквозной, открыт в сад и во двор, он был их частью. Теперь оживали все его уголки. Уютна была эта внезапная утрата всех прелестей жары, листвы, беготни на свободе. Мы шумно населяли собой сразу весь дом, наполненные кувшинами и крынками полевых и садовых цветов нижние комнаты, где нежданно трещали, дымя, затопленные печи. Только теперь мы замечали, что, войдя в дом из сеней, выходивших во двор без ступеней, мы оказывались в столовой, высоко поднятой над садом, куда сходила крутая лестница, видная нам из окна (наш дом стоял на отлогом скосе холма). Мы вдруг замечали, как потемнело серебро на салфеточных кольцах, как низок, глубок деревенский буфет у балконной двери, что рояль - коричневый, что диван потерт. Что веер из желтого твердого пальмового листа - расколот. Мы забредали в спальню, выходившую окнами в густую сирень и - под углом - на заросшую крокетную площадку. Вдруг оживала, блестя под стеклом, мамина бёклиновская «Вилла у моря» - скалы, каменные ступени выбитой в них лесенки, сходящей к волнам, фигура женщины, рвущиеся в ветре хвойные ветви. В кухню надо было бежать через угол сеней - низкую полутемную, с маленькими, по-деревенски, окошками и такую жаркую, точно она вся была - печь; там пахло ржаными лепешками, как у Добротворских на кухне, тушеной говядиной с зарумянившейся в соку картошкой. Нас ласково встречала кухарка, угощала только что вынутыми из духовки пирожками. Мы бежали наверх, в наши две светелки под крышей, по которой стучал дождь, - налево Мусина и моя, направо - Андрюшина.
Теперь оживало все то, что мы за обычным вбеганьем и выбеганьем не замечали: разных узоров одеяла на раскладных полотняных кроватях, грубые милые табуретки с глиняными тазиками; ведро было звонкое.
Наше с Мусей окно глядело туда же, куда под нами - боковое окно спальни, в провалившийся глубоко огород за крокетной площадкой и кустами малины, окаймленные густотой высоких деревьев, скрывавших от нас «сторожевскую поляну» с плохоньким домом сторожки и городской богадельней. Из Андрюшиного окошка было видно то же, что из рояльного окна столовой, под ним - тропинка в «старый сад» с громадной елью и низкими кронами яблонь.
Но в дождь больше всего мы ценили верхний балкон, где в уютной клетке мы всласть слушали дождь, хлещущий ветер, клекот летящих по желобам ручьев, смотрели на бурные светлые струи и гнали палками листья по желобам свежевымытых гулких крыш.
А потом что-то начинало делаться с летом, все как-то изменялось - облака, деревья, появлялись другие звуки и запахи, и мы, в горе, уж думали, что это кончается лето, - когда по особенно синему небу, паутинкам в «старом саду», запаху грибов и сырой соломы - мы узнавали еще новую радость, - это вовсе не «лето уходит», а это «пришла осень»!
 Изменники! Забрезжившую грусть мы отдавали за новое счастье, бездумно купаясь в щедро льющейся роскоши сентябрьских рощ! Мы не успевали. Это было состояние опьянения. Точно зеркалом освещенной панорамной картиной открывался волшебный осенний мир. Чья-то рука так быстро меняла картины, что только бегом могли ноги поспеть и грудь хоть немножечко надышаться: стволы и пеньки грибной рощи, где мы всей семьей - впервые - набрали уж целую корзину грибов. Мама надевала нам головные платочки, Мусин - голубой, мой - розовый. Верхом, качая загорелые ноги, скачет на гнедой лошадке баба, спеша на гумно. Таинственность этого слова зажигает мгновенно на нашем бегу предчувствие того, что настанет сейчас: над криком мужиков и кружащимися у молотилки в необычной упряжи лошадьми, над пестрыми платьями и платками помогающих в молотьбе баб - летящий мягкий желтый «снежок» половы. Смутна память - о «когда мы были маленькие» - о цепах, взлетающих над рожью, давно, когда еще не было молотилки. Изменники! Забрезжившую грусть мы отдавали за новое счастье, бездумно купаясь в щедро льющейся роскоши сентябрьских рощ! Мы не успевали. Это было состояние опьянения. Точно зеркалом освещенной панорамной картиной открывался волшебный осенний мир. Чья-то рука так быстро меняла картины, что только бегом могли ноги поспеть и грудь хоть немножечко надышаться: стволы и пеньки грибной рощи, где мы всей семьей - впервые - набрали уж целую корзину грибов. Мама надевала нам головные платочки, Мусин - голубой, мой - розовый. Верхом, качая загорелые ноги, скачет на гнедой лошадке баба, спеша на гумно. Таинственность этого слова зажигает мгновенно на нашем бегу предчувствие того, что настанет сейчас: над криком мужиков и кружащимися у молотилки в необычной упряжи лошадьми, над пестрыми платьями и платками помогающих в молотьбе баб - летящий мягкий желтый «снежок» половы. Смутна память - о «когда мы были маленькие» - о цепах, взлетающих над рожью, давно, когда еще не было молотилки.
Вечер. Рояльные звуки из окон в музыкой гремящую листву. За аллеей «большой дороги» огненная полоска заката, под тучей. Грушевые карамели во рту- длинными зелеными карандашиками, от сосанья из мутных делающиеся блестящими, прозрачными и тоненькими... Всей семьей мы выходим в вечерний осенний ветер, из леса - в поле. О чем-то говорят старшие, о своем. Бежим вперед, дышим ветром, машем хлыстами с листиками на конце. Уют дороги меж деревьев вдруг обрывается об огромное неприютное поле. Полоска заката уж совсем узенькая, как осколок грушевой карамельки. Ветер бушует, платки рвутся с голов. У, к а к холодно!.. Поворачиваем домой.
Только наутро мы узнавали, по какому лесу мы шли вчера темным вечером, обходя овраг, поросший ореховыми кустами. Как мог стать он таким пестрым, рыжим, рядом - светло-желтым и потом - бурым, розовым и темно-красным, малиновым! Только теперь видно, какие разные кусты это были все лето, перемешавшиеся в зеленой гущине овраговой кручи! А опушка леса «большой дороги» всегда была такая зеленая, что даже синяя, там, где дубы - дубы были плохо видны, заросшие осинами и березами, - а теперь их каждая ветвь как выточенная, каждый лист вырезной, точеный, как желудь и желудевая чашечка, - и вместо синевы, темно-зеленой, - все дубы играют в красное и в золотое, всеми ветками - и они совсем отдельно стоят от осин и кустов. Дуб - это царь деревьев, как лев - царь зверей. А у грибов царь - белый гриб! А у ягод - совсем нет царя, потому что малина - лучше клубники, а земляника - лучше малины, а полевая клубника лучше, чем земляника, а куманика... - и так идет без конца...
Поля - сжаты (стриженые). У дорог - те, осенние, на светлом мясистом стебле- цветы: шапочка мелких, светло-розовых, как в прошлом году. И - на зеленых, узелками, стеблях - крупные синие цветы с плоскими лепестками. Годы поздней мы узнали имя: цикорий. Кучи соломы; мы в нее зарываемся. Как она пахнет! Яма в «старом саду», летом заросшая густо, снова, как год назад, полна зеленой воды. И в упавшей коряге желобок полон воды. Звук пастушьей дудки. Сторожевские дети роют у края холма пещерку, над ней проделывают дырку для дыма, жгут под ней костер и пекут картошку. Убежав от фрейлейн, несем туда стащенную на кухне еду.
Отступили назад летние запахи - бузинный, тополиный, липовый; запах горячей от солнца малины, запах купанья; речных лопухов, матово-зеленых, с белой подкладкой, - пряный, немного противный и все-таки родной. Пахнет прелыми листьями, грибами - и этим пахнет не просто в воздухе, а - в ветре. Запахи не стоят и не веют, как летом, а - несутся, несутся! И мы несемся с горы отчаяннее, чем летом: скоро все кончится! Каждый день мы в тоске выбегаем в «старый сад» и на «большую дорогу»: глядеть, как много уже со вчера листьев сорвано ветром - как все пустей ветки, все больше неба, все меньше леса. Но в то время, как глаза печалились, - ноги радовались, загребая все глубже гущу лиственного ковра.
 Наконец ветер срывал все, почти совсем все, и свистел в ворохах голых веток. Тогда под ногами - они шли в мягком по щиколотку - оказывалась вся сброшенная сверху краса - малиновая, желтая, рыжая, - но она бурела, гасла, превращалась в шорох, в смесь слишком сухого и слишком сырого, и мы все это на бегу ворошили. Начинался неуют осени. Ока не плыла медленным голубым зеркалом, она была сине-свинцовая и сердитая, и по ней - рябь. Шли дожди. На нашем верхнем балконе, за прямыми его, как дождевые струи, серыми решетниками, одетые в драповое, мы низали бусы, срывая темно-янтарные ягодки с густых рябиновых кистей. И как терпеливо и жадно ни старался рот прожевать... проглотить - ничего, кроме огорчения, не получалось от упрямой рыжей мякоти - такой горькой, что дрожали даже игла и нитка, пронзавшие красавицы ягоды. Наконец ветер срывал все, почти совсем все, и свистел в ворохах голых веток. Тогда под ногами - они шли в мягком по щиколотку - оказывалась вся сброшенная сверху краса - малиновая, желтая, рыжая, - но она бурела, гасла, превращалась в шорох, в смесь слишком сухого и слишком сырого, и мы все это на бегу ворошили. Начинался неуют осени. Ока не плыла медленным голубым зеркалом, она была сине-свинцовая и сердитая, и по ней - рябь. Шли дожди. На нашем верхнем балконе, за прямыми его, как дождевые струи, серыми решетниками, одетые в драповое, мы низали бусы, срывая темно-янтарные ягодки с густых рябиновых кистей. И как терпеливо и жадно ни старался рот прожевать... проглотить - ничего, кроме огорчения, не получалось от упрямой рыжей мякоти - такой горькой, что дрожали даже игла и нитка, пронзавшие красавицы ягоды.
А когда после таких двух-трех дней дождя мы вновь выбегали на солнце, было так холодно и мокро, руки делались красные, и хотелось - и было стыдно - идти греться в кухню. От луж все кругом было другое, чужое... И впервые за все лето вдруг вспоминалась - Москва.
А уж в доме - сборы. Мы уезжаем. Тюки, корзины, портпледы. Ямщики, тарантасы. Запах лошадиного пота, страстно любимый (Муся его хочет - себе, мне уступает запах дегтя - колеса, травинки). Некогда спорить, потом!
В миг, когда начинает дребезжать колокольчик, детей рассаживают меж взрослых, и замер дух перед счастьем пути - в сердце кто-то поворачивает нож расставания.
- Прощай, Таруса! Прощай, Ока! - в слезах кричим мы.
Вечно бы так ехать. И никогда не догонишь даль! Но и в блаженстве дороги - темные пятна. (Это все виноваты старшие: ну что из того, что Мусю опять тошнит? Большая беда!) Подымается шум. Никто не хочет сидеть рядом с Мусей: ни мама, ни Лёра. «Давайте ее мне, - мирно говорит папа. - Мятных пастилок? Ничего, ничего! Все пройдет, все пройдет!» - повторяет папа, похлопывая по плечу Мусю, - а вот и станция уже видна!
И вот уж и это умчалось куда-то вместе с отъезжающими от станции тарантасами, уж не нам звенят колокольчики... Как слабо уже! Ведь только что так громко звенели!
- Мам, а помнишь...
Но мама не слышит. Мусю, кажется, уж опять укачало? «Муся, сядь сюда, лицом к движению».
Я гляжу на бледное лицо Муси. Мне жаль ее, но я тайно горжусь. Я вот маленькая и «слабая» - а меня никогда не тошнит! Мама устает от дороги и сердится. Лёра - всегда спокойна. Она ласково говорит с Мусей, старается ее отвлечь, рассмешить. Муся улыбается ей через силу.
Та-та-там, тат-татам, та-та-там...
Я сплю, привалясь о толстый портплед.
Лето 1908 года в Тарусе
 В это лето к Марине приехала гостить ее подруга Соня Юркевич: невысокая, голубоглазая, светловолосая. Она вместе с нами ходила по нашим любимым местам, мы катались на лодке, купались, жгли костры. Как всегда, заезжали за нами на своей большой лодке Добротворские - Саня и Люда, и мы то в их, то на двух лодках ездили по зеркальной в тихие вечера Оке, и один конец ее (мой) был, как в детстве, золото-розовый, а другой - дымно-синий (Маринин), лиловый. То серебряный рог месяца, то рыжая полная луна колебали свое легкое водное отражение. И, как прежде, неслась с чьей-то далекой лодочки все та же песнь «Чудный месяц плывет над рекою» - точно не было Нерви, Лозанны, Ялты... точно мы - те! В это лето к Марине приехала гостить ее подруга Соня Юркевич: невысокая, голубоглазая, светловолосая. Она вместе с нами ходила по нашим любимым местам, мы катались на лодке, купались, жгли костры. Как всегда, заезжали за нами на своей большой лодке Добротворские - Саня и Люда, и мы то в их, то на двух лодках ездили по зеркальной в тихие вечера Оке, и один конец ее (мой) был, как в детстве, золото-розовый, а другой - дымно-синий (Маринин), лиловый. То серебряный рог месяца, то рыжая полная луна колебали свое легкое водное отражение. И, как прежде, неслась с чьей-то далекой лодочки все та же песнь «Чудный месяц плывет над рекою» - точно не было Нерви, Лозанны, Ялты... точно мы - те!
Стояли тихие, знойные летние дни. Марина проводила дни с Соней Юркевич, я - с Ленкой, давней моей деревенской подружкой. Я еще в раннем детстве полюбила ее, на три года меня моложе, за ее решительный гневный характер, за строгое личико, за темно-синие глаза и льняные волосы. Теперь она погрубела, заострилась, засмуглилась нисходящим деревенским загаром. У нее, как у нас, умерла мать, давно болевшая. Домом правила полная, веселая Люба, но и она стала строже, деловитей после матери. С нами теперь ходил шестилетний Колька, белобрысый, черноглазый, озорной, на все отвечающий поговоркой: «Охота была!» С нами он увязывался на качели на «сторожевской поляне», за нами в шалаш, за нами купаться, не боялся ни плотогонов, ни стариков и старух - богаделов и богаделок, которых в суеверном каком-то страхе избегали даже мы с Ленкой. По-прежнему ходил, припадая на ногу, сухорукий, с желто-белой бородой, в ссоре нечаянно убивший огурцом в висок другого старика, отбывший каторгу Осип, и всегда внезапно, как большой гриб в рощице берез и осин, появлялась в синем широком платье старая Аграфена с больными глазами. Были и такие, что вовсе не выходили из дому. Жизнь шла, как годы назад.
Среди лета умерла младшая из сторожевских детей, трехлетняя синеглазая Соня. Вслед за Ленкой я вошла в избу. Знакомая, душная смесь запахов - черного хлеба, щей, пота (ею пропахло все, даже дети) - встретила еще на пороге. Но теперь тут была толчея от женщин, говоривших притушенными голосами. В маленьком гробике лежал восковой ребенок, украшенный цветами, и в нем не было ничего сходного с розовощекой крикуньей Сонькой. Рёвер, мама. Это было в третий раз. Страшная метаморфоза смерти в жалобности нищеты была еще страшней в своей обнаженности. Моему возрасту это было почти не под силу. Я поспешила выйти на воздух. Солнце, синева, щебет птиц вернули мне чувство жизни. Но в нем был стыд за себя. Притихший Колька не прыгал по скрипучему коридору, вдоль комнат богаделов и богаделок, проходил, шагая как взрослый. Мелькало заплаканное лицо старшей Любы, сумрачное - Семена. И вот мы идем по тропинкам между холмов высоко над Окой, вслед за маленьким гробом, под полуденным равнодушным солнцем. Я прошла со всеми на кладбище, но не помню ни могилы, ни похорон. Я шла домой по крутой лестнице, земляной, которую лопатой вырубил (ступеньки крутые, порастают травой) давно Сережа Иловайский, - когда-то он с сестрой Надей гостил у нас в новой, для них сделанной пристройке, еще до Италии... (Потом из двух комнаток, новых, сделали одну - окна в жасмин. В ней болела и умерла мама...) По «Сережиной лестнице» Марина и я никогда не ходим: страшно на нее ставить ноги; ступени живые, а он - под землей, сколько лет.
- Марина, идем?
- Сейчас допишу...
Мы выходим на луг. Тишина. Справа- зеркальце болота. Через луг к пескам. Там особая речная тишь... Наше любимое место. Но далеко идти.
Таруса позади исчезла.
Берег крут, кое-где порос травой. Ложимся головой к краю на теплый песок и смотрим вниз, на воду.
- На будущее лето поеду в Париж, - говорит Марина, - непременно!
- А Тарусу не жаль?
- Жаль...
Жара. Далекий крик птицы. Плавные струи реки, справа налево, справа налево, против часовой стрелки.
- Марина, из головы не выходят стихи, чьи - не знаю...
Знойный день стоит над степью,
Чуть колышется трава,
Непрерывной длинной цепью
Плавно реют облака.
- Не очень хорошие... - сонно отзывается Марина. - Какая это рифма «трава - облака»... Уснула! Подбородок на руки, как пес. На полуслове. Начинаю засыпать и я.
А в доме Тьо все было так же торжественно, мирно, как в нашем детстве...
Был летний день, когда мы переступали порог к Тете; вся жизнь осталась по ту сторону тяжелой калитки ее добротных и парадных ворот. Тут была своя жизнь, прочная, неколебимая, о нее разбивались все впечатления дня. Так было с детства, и оно не менялось. Детство, отрочество - здесь были равны. Пахло, густо, ромашкой. Заслышав шаги, Тетин пес залаял.
Марина критически оглядела мои расчесанные на косой ряд волосы, делавшие меня своей манерой лежать, при длинном носе, похожей на Гоголя, поправила воротник. «Идем?» На Марине было светлое платье, длинное, как носили тогда. Ее русые волосы были подняты надо лбом с напуском и заколоты. Я знала, что ей - как и мне - неприятно носить очки: помимо того, что это портит, стекла для близоруких уменьшают размер глаз. Но снять их, оказаться в тумане неясностей лиц и вещей было еще хуже. Так мы входили, удержав вздох, «в гости» - даже и к Добротворским: там было много людей - то Надин, то Людин, то их матери глаз скользили по нас, наблюдая. От этого мы были свободны, входя к Тете, - для нее мы были все те же Муся и Ася, как десятилетие назад. Надо было только, чтобы одежда и волосы были в порядке, все остальное пропадало в ее любви. Она была всегда неизменна, в нее мы входили как в нагретую комнату. Никаких наблюдений над нами тут не было, Тетя не наблюдала, она жила. Она сидела сейчас на террасе в белом фланелевом капоте с оборками и глядела поверх дедушкиных черепаховых очков куда-то вверх, - казалось, на верхушку ближней липы. Эта липа цвела, и в воздухе было блаженство.
 После чая так же было прохладно в самую жару в спальне, где перед портретом дедушки стояли на полочке цветы «любим Манин анютин глазки». И начинались безутешные воспоминания о маме, о дедушке. С портрета смотрел углем написанный высокий седой худой человек в шляпе, в сером пальто и с сигарой в руке. Мамин отец! После чая так же было прохладно в самую жару в спальне, где перед портретом дедушки стояли на полочке цветы «любим Манин анютин глазки». И начинались безутешные воспоминания о маме, о дедушке. С портрета смотрел углем написанный высокий седой худой человек в шляпе, в сером пальто и с сигарой в руке. Мамин отец!
Раздавался мелодичный звон: венский шкафчик- часы. В маленьких гостиных все так же мебель стояла в чистейших полотняных чехлах с оборками, два шкафа с сине-зелеными географическими полушариями на дверках; черный, годы, после дедушки и мамы, молчащий рояль. И, зовя на воздух, в рай сада, на столе террасы темным золотом начищенной меди шар самовара. А за ним - кусты отцветшей сирени, клумбы, песок дорожек, глубь фруктового и липового сада, обнесенного высоким, непроницаемым забором.
Как встарь, Тетя сидит в своем пышном, оборчатом платье (фасон всех ее платьев - всегда один, давно уже без перехвата в талии, как у маленьких девочек, только до полу), гладко причесанными полуседыми волосами и черной муаровой наколкой на макушке, спустив на кончик носа дедушкины черепаховые очки, полный двойной подбородок. Обняв нас крепкими полными руками, она рассказывает нам о тарусских - и уездных - бедняках, просящих ее помощи
 Папа ездил по делам Музея за границу, с нами побыл недолго. Но когда приезжал в Тарусу на отдых - брал лопату, шел в огород и работал там с увлечением. Папа ездил по делам Музея за границу, с нами побыл недолго. Но когда приезжал в Тарусу на отдых - брал лопату, шел в огород и работал там с увлечением.
Лёра тоже бывала в Тарусе неподолгу, ездила летами в самые разнородные места, - я запомнила из ее позднейших поездок - и Лондон, и Крым, и Алтай, где она скакала верхом по диким местам со старым, опытным проводником.
Как и год назад, Марина и Андрей уехали в Москву к началу гимназических занятий, а меня оставили еще пожить у Добротворских.
Живя у Добротворских, я выразила желание учиться переплетному ремеслу. Папа дал согласие, и Елена Александровна пригласила старенького тарусского переплетчика - давать мне уроки переплетения. Но чем более я увлекалась процессами склеивания и обрезания книг, тем прохладней относился к моему увлечению старичок переплетчик. Вскоре Катя, прислуга Добротворских, открыла этот секрет: бедный старичок встревожился, что растит себе конкурента... Смеясь, я старалась разрушить его подозрения.
Марина ко всему этому была совсем равнодушна. В эту осень нам минуло: Марине шестнадцать, мне четырнадцать лет.
|