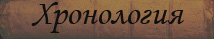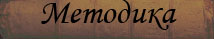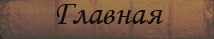

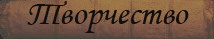 <>Пьесы
<>Пьесы
<>Повести
\/ Ночи
\/ Каиб
<>Сатиры
<>Стихотворения
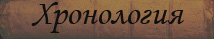

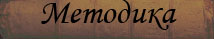

|
КАИБ
Восточная повесть
Каиб был один из восточных государей; имя его наполняло вселенную. «Слава твоя, — говорил ему некто из его стихотворцев, — слава твоя была бы подобна солнцу, если бы оно не заходило». Каибу нравились хорошие сравнения; и за это, пожаловав его в евнухи, сделал смотрителем над своею сералью. Богатства Каибовы были неисчерпаемы; дворец его, говорит историк, был обнесен тысячию яшмовых столбов, коих капители были изумрудные, коринфского ордена, а тумбы из чистого литого золота; дворец сей был сделан из черного мармора, и стены его были столь гладко вылощены, что лучшие щеголихи смотрелись в них, как в зеркало. Окны были пропорции новейшей италиянской архитектуры, немного более того, как делаются городские ворота, и во всяком окне было только по одному стеклу, но которые были так тверды, что потачливейшие мужья нынешнего времени не в состоянии были бы прошибить их своим лбом. Крышка была из листового серебра, но столь чисто отработанного, что часто в ясные дни целый город сбегался ко дворцу, думая, что он горит, когда всю сию тревогу производило одно ее сияние. Заметь, любезный читатель, что все это говорит Каибов историк.
Внутреннее великолепие дворца поражало всякого, кто туда ни входил: простолюдимов ослепляло золото, жемчуг и каменья, коих было более, нежели ортографических ошибок в наших новых писателях. Знатоков привлекало искусство, блистающее во всех украшениях дворца: там развевали завесы из непроницаемого штофу, который был толще всех четырех частей Беседующего Гражданина, переплетенных вместе; там блистала резьба, отделанная с такою чистотою, что никакой бы автор не пожелал видеть лучшей чистоты на переплете своих сочинений; многие комнаты украшены были живописью, обманывающею зрение, и надобно отдать справедливость Каибу, что хотя не пущал он ученых людей во дворец, но изображения их делали не последнее украшение его стенам. Правда, стихотворцы его были бедны, но безмерная щедрость его награждала великий их недостаток: Каиб велел рисовать их в богатом платье и ставить в лучших комнатах своего дворца их изображения, ибо он искал всячески поощрять науки; и подлинно, не было в Каибовом владении ни одного стихотворца, который бы не завидовал своему портрету.
В другом месте, продолжает историк, видны были из драгоценных перьев чучелки, сделанные с таким вкусом, что сколько ни старались придворные дамы подражать им в пестроте своих одежд, но часто с досадою видели, что на прекрасных чучелок любовались более, нежели на них. В иных местах резвились на золотых цепочках забавные обезьяны, которые кривлялись с такою приятностию, что искуснейшие придворные ставили за честь у них перенимать, а нередко, по слабости человеческой, выдумки обезьян выдавали за свои, отчего между тогдашних обезьян и придворных была великая вражда, о коей историю в тридцати шести томах в лист издала тамошняя академия. Там, на великолепных пьедесталах, блистали Каибовых предков бюсты, которые высокостью работы не уступали своим высоким подлинникам.
Внутренние комнаты его убраны коврами столь редкой красоты и цены, что величайшие цари, современники Каибовы, приезжали играть на них шемелой и приказывали историографам записывать это в число величайших своих подвигов. Зеркала его хотя были по двенадцати аршин длиною, из чистой стали, но не столько почитались редкими по своей величине, как по свойству, данному им некоторою волшебницею: зеркала сии имели дар показывать вещи в тысячу раз прекраснее, нежели они есть. Старик видел себя в них молодым красавцем, изветшалая кокетка — пятнадцатилетнею девушкою, урод — пригожим, а разгильдяй — ловким. Со всем тем Каиб никогда в их не смотрелся, а держал для одних своих придворных, и то для того, чтоб забавляться, видя, как отвратительнейшие лица перед сими зеркалами спорят о своей красоте и заводят ссоры, которыми Каиб любовался. Тысячи попугаев говорили в его клетках скоропостижные вирши; многие из сих попугаев были красноречивее тогдашних академиков, хотя академия Каибова почиталась первою в свете потому, что ни в какой академии не было такого богатого набора плешивых голов, как у него, и все они бегло читали по толкам, а иногда очень четко писали к приятелям письмы. Со всем тем многие уступали в красноречии попугаям, из коих многих Каиб, любя ученость, сделал членами академии только за то, что они умели выговаривать чистенько то, что выдумал другой. Что ж до изобилия, то Каибов двор превосходил оным все восточные дворы, и последний ложкомой Каибов ел вкуснее, нежели у Гомера цари. Календарь Каибова двора был составлен из одних праздников, и будни были там реже, нежели именины Касьянов.
Сераль его был наполнен первыми красавицами в свете, из коих не было ни одной старее семнадцати лет. Сколь фабрики ни стараются ныне доходить до совершенства в составлении румян, но лучшие румяны показались бы дикими в сравнении с природным румянцем последней из его султанш. Девушки его не портили своих прелестей излишними жеманствами; они не падали в обморок от пауков и тараканов, для того чтобы разметаться приятным для глаз образом. Когда находила на них задумчивость, столь обыкновенная семнадцатилетнему японскому возрасту, то не принимали они чистительного, чтобы иметь лучший цвет лица. Великолепные его конюшни наполнены были редкими лошадьми, которые были статнее наших щегольков и послушнее первых его визирей. Ледники его трещали под тяжестью вкуснейших вин. Сами боги, говорят, с удовольствием напивались в его погребах допьяна и предпочитали вина его нектару, который опостылел им с тех пор, как стихотворцы начали разливать его своим героям так же небрежно, как бабы льют коровам помои.
Весь свет, взирая на Каиба, почитал его счастливым; типографщики наживались, издавая претолстые книги о его блаженстве. Когда стихотворцы тогдашнего времени хотели описать торжества богов и райские веселия, то не иначе к тому приступали, как доставши через какого-нибудь евнуха случай втереться между музыкантов, чтобы посмотреть придворного великолепия и серальских праздников; однако ж, и на то несмотря, описания их божеских пиров часто пахли гнилою соломою, на которой они сочинены. Весь свет кричал, что Каиб счастлив, и один только Каиб знал, что это неправда; но он никому этого не говорил, боясь, чтобы не сочли его неблагодарным противу благодеяний судьбы, чего он всегда остерегался. Он часто в своих стихотворцах читал описания своего счастья и смеялся пустому их воображению; или иногда завидовал для чего не был он так же слеп, как они, чтоб видеть себя только со счастливой стороны. Как бы то ни было, а Каиб не столько был счастлив, сколько о нем кричали; в сердце его оставалась какая-то пустота, которую не могли дополнить окружающие его предметы. Придворные господчики, женщины, обезьяны, попугаи — ничто его не увеселяло: на все это с высокого своего престола смотрел он позевывая; иногда улыбался на скачки обезьян или на кривлянья придворных, но в сих улыбках видно было более сожаления, нежели удовольствия.
Весь двор примечал, что он был задумчив, но никто не мог выдумать, чем бы его позабавить; и обер-шут его двора, который был шутоватее всех италиянских опер вместе, с отчаянием видел, что высочайший его владетель уже два месяца не давал ему щелчков по носу; все это заметили и заключили, что он уже не в такой большой силе у двора, как был за два месяца, когда, к досаде своих завистников, всякий день получал он пинков по двадцати в зад, по стольку же щелчков по носу и показывал всем на боках своих знаки Каибовой к себе милости.
Но что была за причина Каибовой скуки? Вот чего никто не знал, а что всего чуднее, то это и самому ему было не известно. Он чувствовал, что ему чего-то недостает, но не мог познать, в чем этот недостаток; ему казалось, что он один во всей вселенной, или, что еще ближе, как будто был иностранец между миллионами людей, им одолженных, которые не могли его разуметь, ни помочь его скуке.
Сперва подумал он, что сему причиною любовные желания, и бросился искать счастья в серале; но самые скромные девушки показались ему кокетками, которые, желая ему угодить, искали только своей пользы; правда, всякая из них хотела, чтоб на нее брошен был султанский платок, но часто более для того, чтобы тем досадить своей совместнице, нежели сделать его счастливым. Желание ему нравиться было смешано во всех сердцах с желанием корысти или с честолюбием; он заметил по повторению, что все приветствия, все ласки выучены были наизусть и в месяц сераль так ему наскучил, что он перестал в него заглядывать и заключил, что не с этой стороны должен искать счастия.
Каиб вздумал потом, что скорее всего разгонит грусть свою новыми победами; повелел — и вдруг армия, многочисленнее древней, Ксерксовой, и не уступающая в храбрости грекам, умершим при Термопилах, была готова и двинулась собирать лавры. Война загорелась, — открылось поле славы для героев и для стихотворцев; сочинители мелкого разбору зачали заготовлять пирамиды од, надеясь при первом случае сбыть их за хорошую цену. Многие жены поседелых героев заранее любовались перед зеркалами, сколь пристанет к ним траур, и твердили науку упадать в обморк, чтобы пользоваться ею, когда принесут к ним весть о кончине их мужей; купцы возвысили цену на черные материи; сочинители эпитафий сделались неприступны.
Первые две победы, одержанные Каибовыми войсками привели его в восхищение; третью новость о победе слушал он равнодушнее; наконец зачал уже зевать, слушая такие новости, и решился дать свету отдых. Войска возвратились, обремененные славою и корыстями, а Каибова зевота не уменьшилась, и он не без зависти взирал, что полунагие стихотворцы его более ощущали удовольствия, описывая его изобилие, нежели он, его вкушая.
В одну ночь, удивляясь неодолимой своей скуке, ворочался Каиб на своих пышных пуховиках, и сон, как будто не смея войти в царскую спальню, заставлял храпеть в ближней комнате его служителей. Вдруг увидел он, что его любимец кот гонялся за мышью. Она всячески старалась от него увернуться. Так точно часто челобитчик желает увернуться от подарка своему судье; но напрасно заговаривает он с ним о дурной погоде и о хорошей, о старых временах и о нынешних, хотя бы заговорил он с ним о Эмпедокловых туфлях, взяткобратель и от них искусно склонит речь на то, что ему надобны деньги. То же происходило и у мыши с котом: стараясь его обманывать, металась она в разные стороны, искала спасения по всем углам... и вдруг вскочила к султану на кровать. Какая бы красавица утерпела при сем прекрасном случае, чтобы не броситься с постели стремглав, не поднять содому, не скликать весь свет, ежели можно и, наконец, чтобы потом не упасть раза два, три в обморок? Но Каиб был неустрашим: он не боялся мышей, пауков, тараканов и с радостию бедную мышку принял под свое покровительство; притом же начитался, ибо он любил учености, и Тысячу одну ночь всю знал наизусть; он начитался, что в таких случаях делаются великие чудеса, как прекрасная Шехеразада — сей неподражаемый историк его предков — свидетельствует; а Каиб верил сказкам более, нежели Алкорану, для того что они обманывали несравненно приятнее.
Дело и подлинно кончилось чудом: менее нежели в минуту, гонимая мышь превратилась в прекрасную женщину, Какой вздор! — скажет любезный мой читатель, по прошу не дивиться: в Каибов век была такая мода на чудеса, как ныне на аглинские шляпки, и тот дом, в котором не случалось в неделю по крайней мере два чуда, был так же смешон, как ныне дом, где не играют в карты.
«Каиб,— сказала ему превращенная женщина,— ты спас мне жизнь; должно, чтоб я усладила твою: благодеяние рождает благодарность. Проси от меня, чего ты хочешь, и я в минуту исполню твое желание, хотя бы оно целило на богатства всего света».
«Великодушная фея! — вскричал удивленный Каиб,— не имею я нужды в сокровищах; они столь велики, что сколь визири меня ни обворовывают, но ущерб в них так же мало приметен, как ущерб в Эзоповой реке, которую хотели выпить жадные собаки; и я надеюсь, что мои собаки так же перелопаются прежде, нежели вылакают море моих сокровищ; из сего можешь ты заключить, нужно ль мне желать их более? Сколь ни бесценною великий наш муфтий почитает свою бороду, но если бы захотел я соблазнить
честного этого старца, то бы всю ее мог скупить по волоску, нимало не расстроив своих богатств. У меня нет также недостатка в красавицах; природа меня не обидела, и моя взгляд еще не находил ни одной спорщицы в любви,— столько-то одарен я способностию нравиться! Впрочем, состояние мое столь блестяще, что спустя еще семьдесят лет не будет при моем дворе ни одной Венеры, которая бы не захотела меня иметь своим Адонисом; и хотя природа станет им противоречить, но воображение, конечно, ее победит. Может быть, пожелал бы я славы; но стихотворцы мои, хотя и спят сами на открытом воздухе, а мне настроили столько храмов славы, что если бы можно было их составить вместе на земле, то бы вышел из них город пространнее Пекина и великолепнее древнего Рима. Итак, ты видишь, что мне ни в чем нет недостатка. Со всем тем я зеваю, и по этому-то одному догадываюсь, что мне чего-нибудь недостает, но что это такое, того ученейшие из моих подданных отгадать не могут».
«Каиб, — сказала ему волшебница, — желание твое исполнится: я знаю, что нужно к твоему блаженству. Исполни, что написано на этом перстне (при сем подала она ему перстень). Завтра поутру начни свой труд; поберегись его оставить. Как же скоро успех увенчает его, то не будет человека на земле, который бы мог с тобою сравняться блаженством. Прости и помни, что я всегда готова к тебе на помощь; как же скоро буду я тебе нужна для какого-нибудь совету, то вот тебе целый том од одного из бесприютных строителей храмов славы: едва прочтешь ты одну строфу, как на тебя найдет беспамятство; в сие-то время буду я тебе являться и давать нужные наставления. Прости, государь!» — повторила волшебница и в миг исчезла.
Каиб, отворотясь к стене, захрапел, оставя до утра исследование дела; он даже — подивись прекрасный и любопытный пол! — он даже не посмотрел, что написано на перстне.
На другой день нашел он на нем вырезанные сии слова: «Ступай не медля и ищи человека, который бы назывался твоим врагом, не зная, что тебя любит, и который бы тогда ж назывался твоим другом, не зная, что тебя ненавидит. Тот, в котором увидишь ты сие противоречие, один может излечить тебя от твоей зевоты». Вот довольно огромная для перстня надпись! — скажет критик... Может ли она уместиться на перстне? это невероятность!» — очень сожалею, когда свет ныне так испортился, что не верит сказкам; впрочем, вообрази, милостивый государь мой, такой перстень, на котором бы вся эта надпись поместилась, и критика исчезнет. «Но где же взять такую руку, которой бы в пору был этот перстень?» — спросят меня опять. О! кто знает Голиафа и Атланта, тот поверит, что на их перстнях можно было уписать более, нежели на надгробных досках людей нынешних веков.
«Милостивейший государь! — сказал Каибу шут, увидя сию надпись, — перстень этот есть явное на меня гонение моих неприятелей». — «Почему ты это думаешь?» — спрашивал его Каиб. «Повелитель правоверных! — продолжал шут, — тебе советуют лечиться от скуки и не прописывают меня лекарством: не явное ли это желание унизить мой сан и силу? Как будто бы моя священная должность — смешить ваше величество — ничего не значила!» — «Не опасайся, — отвечал калиф, — изо всех моих визирей никто так хорошо, как ты, сорокою не скачет; итак, мои милости к тебе непоколебимы». — «Еще слово, государь,— вскричал шут, целуя его полу; — время, пожирающее все, может и меня лишить моих способностей служить вашему величеству, и я потеряю свою легкость; опасаясь, чтоб враги мои тогда не восторжествовали, предпринял я заранее оставить двор». — «Пустое, пустое! — вскричал Каиб,— разве не можешь ты при моем дворе сыскать дела? Выучись к тому времени ползать черепахою». Шут еще раз поцеловал полу его одежды, а Каиб, не сказав истинного происшествия своего перстня, зачал в самом деле заниматься своим предприятием.
На другой день Каиб созвал свой диван, чтобы подумать обстоятельнее о своем важном предприятии. Надобно приметить, что Каиб ничего не начинал без согласия своего дивана; но как он был миролюбив, то, для избежания споров, начинал так свои речи: «Господа! я хочу того-то; кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объявить: в сию ж минуту получит он пятьсот ударов воловьего жилою по пятам, а после мы рассмотрим его голос». Таким удачным предисловием поддерживал он совершенное согласие между собою и советом и придавал своим мнениям такую вероятность, что разумнейшие из дивана удивлялись их премудрости. И для того-то хотя иногда терпел он визирей с крепкою головою, но не мог терпеть тех, у коих крепки были подошвы. «Такие люди, — говаривал он, — всегда думают, что они умнее других и они для меня не годятся. Мне надобны визири, у которых бы разум, без согласия их пяток, ничего не начинал». Теперь, любезный читатель, можем мы продолжать нашу повесть.
Каиб представил, что ему нужно выехать из города тайно месяцев на восемь или более; что от этого зависит его спокойствие, а следственно, благополучие целого государства; что в сие время не может он управлять никакими делами; что более всего нужно скрыть его путешествие от народа и, следственно, не остановлять никаких дел; что, наконец, во всем этом полагается он на их рассуждение.
Диван разделился на две стороны; одни говорили из учтивости, что калиф нужен государству и что оно не может обойтись без его высокой особы так долгое время, другие говорили, из учтивости же, что он может исполнить свое предприятие и что государство ничего не потеряет, если он отлучится на несколько месяцев. Каиб дал им волю спорить и между тем занимался будущим своим путешествием. Наконец, наскуча шумом, сказал: «Господа! я так хочу». Визири первого мнения, вспомня, что у них есть пятки, согласились с визирями последнего мнения. Путешествие было определено.
«Друзья мои! — сказал калиф, — я признателен к вашей сговорчивости; и хотя ни у какого калифа люди за слово так не получают столь большого жалованья, как у меня; хотя никакой султан не содержит такого числа полезных государству людей, при важной должности выговаривать чисто так; но вы столь усердно исполняете свое почтенное звание, что я охотнее издерживаю деньги на вас, нежели на лучших арабских лошадей и китайских кукол. Из сего вы можете заключить, как приятно мне всегда видеть у двора своего разумных людей, коих премудрые советы полезны государству столько же, сколько скотные дворы полезны хлебопашеству».
Чувствительные визири были тронуты до слез такою похвалою, а Каиб, улыбаясь, продолжал: «Итак, когда вы согласны, то ничто уже не остановит моего путешествия; но мне еще нужен благоразумный ваш совет: я уже сказал, что отъезд мой должно скрыть от народа и что нужно не оставлять государственных дел; а к сему-то я еще никаких способов не выдумал; и если б не надеялся на ваше остроумие, то бы отчаялся согласить эти две вещи. Итак, любезные визири, присоветуйте мне, кто из вас как думает? Тому же, кто лучшее подаст мнение в сих важных обстоятельствах, обещаю я подарить полное собрание арабских сказок в богатом сафьянном переплете и перевод Конфуция, писанный в лист, на такой твердой бумаге, из которой можно сделать прекрасные летучие змеи». Визири все видали перевод Конфуция, были охотники спускать змеи и не менее любили арабские сказки. Богатое обещание щедрого Каиба воспламенило их воображение, и они все пошли на голоса.
Первый был Дурсан, человек больших достоинств: главное из них было то, что борода его доставала до колен и важностию походила на бунчук. Калиф сам хотя не имел большой бороды, но он знал, что такие осанистые бороды придают важность дивану, и потому-то возвышал Дурсана по мере, как вырастала его борода; а когда, наконец, достала она до пояса, тогда допустил он его в свой диван. Дурсан, с своей стороны, не был беспечен: видя, что судьба назначила его служить отечеству бородою, ходил он за нею более, нежели садовник за огурцами, идо последнего волоска держал на счету. Впрочем, делал он много важных услуг отечеству: когда бывал при дворе праздник, тогда наряжался он пышнее всех женщин; и когда у калифа случалась бессонница, тогда сказывал он ему сказки. Сей-то, знаменитый муж начал таким образом:
«Великий обладатель океана, самовластный повелитель известных и неизвестных земель и законный наследник всех монархий, какие только будут открыты! Для такой мелкой словесной твари, как я, велико уже и то сии хождение, что ты попускаешь ей думать; но с чем могу сравнить мое блаженство, когда ты, великий монарх, позволяешь мне объяснить пред тобою мысли мои и, что еще более, требуешь моего совета! Но солнце может ли от земли заимствовать свет? Нет, великий обладатель правоверных! Подобно я не рожден ни думать, ни говорить пред тобою, ниже знать, что ты думаешь! Голова твоя так же непостижима, как священный наш Коран; а голова моя пред тобою то же, что подушка, на которой я сижу; оба мы счастливы твоею щедростию, и лизать прах ног твоих есть священнейшая и важнейшая моя должность, коею наградил ты слабые мои способности. Велико уже и то мое счастие, когда употребляешь ты меня вместо морской трубы, чтобы объявлять мною рабам свои повеления».
«Это все правда, любезный Дурсан, — отвечал калиф,— я радуюсь, видя, что ты помнишь свои права... Но иногда философ видит перед собою пылинку, которую пренебрегает; потом, всматриваясь, познает, что пылинка эта двигается; наконец, разбирая далее, узнает в ней тварь чувствующую и находит, что сколь ни мало это насекомое, но оно может приносить ему пользу. Мы, калифы, обязаны вам, людям, такою же справедливостию. Часто, смотря на вас, пресмыкающихся, сомневаемся мы, можете ли вы думать; но, рассматривая далее, находим, что и вы иногда удобны рассуждать; и хотя неоспоримо, что мозг ваш не может быть такой же доброты, как мозг потомков великого Магомета, избираемых управлять вселенною, со всем тем и ваши рассуждения можно иногда употреблять с пользою: и они бывают довольно изрядны, а особливо в сравнении с рассуждениями черни, так что, под нашим смотрением, действительно можно дозволять вам мыслить. Итак, любезные визири, скажите мне ваши мнения. Не опасайтесь, если и глупо вздумаете: я знаю, что вы люди; природа не создала вас калифами». После такой скромной речи Каиб обратился к Дурсану, чтобы его дослушать.
«Когда обладатель земли повелевает мне объявить мои мнения, — говорил Дурсан, — то, волю его ставя своим законом, скажу устами, что чувствую сердцем. Итак, государь, нет больших препятств ни скрыть путешествия твоего от народа, ни продолжать государственных дел. Для первого нужно немедленно выдать повеление, чтобы подданные твои падали ниц на землю, когда мимо их будешь проезжать, и, под опасением смертной казни, страшились бы на тебя взирать. Если повелитель правоверных дозволит, то я беру на себя сочинить сие повеление, в котором докажу ясно, как непростительно дерзновение знать в лицо обладателя подлунного света и сколь велико оскорбление священной его особы, если черты ее впечатлеваются на грязном мозгу простолюдима; сколь, напротив того, спасительно валяться на земле, уткнувшись носом в грязь, когда проезжает мимо великий повелитель морей и суши. Потом, государь, дабы приучить к сему твоих подданных, можешь ты сделать несколько выездов по городу, и стоит только повесить первую дюжину любопытных, чтобы достальному числу верных рабов твоих отбить охоту подымать взоры до священного чела твоего. После сего можешь ты спокойно ехать. Мы же, одевши пышно куклу, будем привязывать ее к твоей верховой лошади и возить всякий день по городу, возвещая народу, что это ты сам... Все упадут ниц; и тот будет великий чародей, кто затылком узнает разницу между куклою и твоею священною особою. Сие можем мы продолжать до твоего возвращения. Если же к кукле сей приделать такие величественные усы, какими ты удивляешь вселенную и превосходишь всех монархов, то тайна будет еще непостижимее. Что ж до правления дел, то можешь ты, до возвращения своего, поручить их тому, кому более всего доверяешь; и не излишнее бы было, если б выбор твой, в таком важном случае, пал на человека достойного, с почтенною бородою, коея длина была бы мерою его глубокомыслия и опытности. Ибо, великий государь, непокорнейшие сердца смотрят на длинную бороду как на хороший аттестат, данный природою. Такой человек пусть именем твоим производит дела и дает повеления, коих вся добрая слава упадет на тебя, и никто из народа не приметит твоего отсутствия». После сего Дурсан замолчал и начал разглаживать длинную свою бороду.
«У тебя довольно пылкое воображение,— сказал калиф,— и если б я был более горд, то бы употребил твои советы; но, любезный Дурсан, мне не нравится, чтобы мои народы валялись по грязи во время моих выездов. Мне приятнее, когда подданные мои продираются друг сквозь друга меня смотреть и после спорят, из какого вещества я создан; мне очень мило слышать, как одни говорят, что я весь вылит из серебра, другие, что я скован из золота; что я за тысячу миль вижу блоху так же свободно, как будто бы сидела она у меня на носу, и что я один в день столько же могу съесть, сколько целая армия в неделю, не опасаясь нималого отягощения в желудке. Такие прекрасные рассуждения и заключения меня забавляют, и мне жаль отнять у народа свободу меня смотреть, когда он с таким успехом в меня вглядывается и смешит меня иногда до слез своими догадками. Нет, нет, выдумайте другое средство; а это столь сурово, что я по любви своей к моим музульманам никогда его не употреблю».
Тогда Ослашид, первый по Дурсане; разгладил на обе стороны свои усы, растворил рот и начал... Но, любезный читатель, позволь мне познакомить тебя и с этим визирем. Речь сильнее действует, если оратор нам известен.
Ослашид еще за триста лет до своего рождения предназначен был играть не последнее ли до в диване, ибо он был из потомков Магомета, и белая чалма, которую надели на него при рождении, давала ему право на большие степени и почести. Правда, что голова его не знает, как она попала в белую чалму, дающую право на такие выгоды, а душа его не знает, как она попала в голову, имеющую право на белую чалму; но Ослашид был верный музульманин: он, не исследывая своих прав, старался только ими пользоваться и сохранял теплую веру, что судьба имела свои расчеты надеть на него белую чалму и произвести на свет обладателем великих сокровищ. Не вмешиваясь в виды ее, он ставил правилом проживать свои сокровища, как истинный мусульманин. Ослашид имел у себя прекрасный сераль, множество евнухов, еще более невольников-христиан, которых прилежно секал за то, что они не принимают его закона и не могут понять того, чего он сам никогда не понимал. Он дивился, как люди могут не верить, что в обыкновенный рукав можно запрятать луну, которая в диаметре имеет не более 473 немецких миль, и говорил, что для верного музульманина очень легко вообразить, как в одну ночь льзя проехать более, нежели сколько пушечное ядро может, со всею своею скоростию, пролететь в 500 000 лет и иметь еще довольно досугу понаделать на всё исторические замечания. Словом, Ослашид верил всему с удивительною способностию, и это было первое его достоинство у двора, которое заставляло в нем терпеть множество других недостатков. Сей-то достойный визирь начал так свою речь:
«Истинный потомок великого пророка, блистательный калиф, снисходящий по прямой линии от просветителя вселенной, Магомета, ибо я несомненно верю, что, начиная от его жен, жены всех предков твоих были столь же верны, каковыми обещаются нам райские гурии, и что твое родословное дерево не покривлено ни одною женою твоих предшественников; и потому-то право твое повелевать нами столь же священно, как право самого Магомета, для рабства коему создан весь мир. Повелитель правоверных, имеющий власть связывать и разрешать руки и мысли, власть неоспоримую, которая, с помощию благословения пророка, поддерживается 500 000 вооруженных музульман, почитающих счастьем перерезать горло тому, кто вздумает отымать у тебя право их перевешать; обладатель самовластный великого быка, на рогах которого взоткнуты твои пространные владения, — великий калиф! удостой выслушать мнения последнейшего из твоих рабов! Сколь ни премудр совет Дурсана, но, мне кажется, нет нужды заводить таких больших обрядов с народом, а особливо, когда человеколюбие твое признает их суровыми. Всего лучше, великий калиф, выехать тебе в путь сколь можно великолепнее; но при самом выезде за ворота объявить своим подданным, что ты, любя свою столицу, никуда не намерен от нее отлучаться. И тогда, хотя весь город будет видеть, что ты удаляешься, но рабы твои, конечно, поверят тебе более, нежели своим глазам, и будут твердо уверены, что ты здесь, тогда как будешь ты осчастливливать своим присутствием другую половину земного шара. Притом же, отъезжая, можешь им сказать, что ты всякую неделю один раз будешь проезжаться по городу, и назначить день, в который после мы можем водить по улицам под уздцы верховую твою лошадь. Хотя тебя на ней не будет, но рабы твои согласятся скорее поверить, что они все вдруг ослепли, нежели подумать, что ты не сам, высочайшею своею особою, сидишь на лошади, которую почтут они счастливейшею из всех чувствующих тварей, для того что она носит на себе величайшего в свете калифа. Что же до дел, то также можешь ты сказать, что все дела, которые решатся в такое-то время, будут непосредственно рассматриваемы и решены тобою. Словом, можешь ты заключить, что всякий тот преступник, кто в сие время осмелится, поверя пяти своим чувствам, усумниться в твоих словах. Такая речь, величайший калиф, произведет чудеса, и выезд твой для всего государства останется тайною».
«Способ, изрядно выдуманный, — отвечал калиф, — но он хорош для моих только музульман, а над иностранцами, не думаю, чтоб произвел подобное действие, и что еще досаднее, могут разгласить, что я калиф над слепыми народами, а это мало принесет мне чести. Нет, друзья мои, я хочу, чтобы подданные мои верили иногда своим глазам или мне должно со временем терпеть величайший труд сказывать всякому, что он видит и что чувствует. Выдумайте какое-нибудь другое средство: я столько люблю моих подданных, что мне жаль сделать вдруг бесполезными несколько миллионов глаз. Итак, любезный Дурсан и почтенный Ослашид, вы не получите от меня арабских сказок в сафьянном переплете и не будете иметь удовольствия спускать змеев из Конфуциева переводу. Посмотрим, любезный Грабилей, будет ли счастливее твоя выдумка».
Грабилей не имел ни долгой бороды, ни счастия родиться в белой чалме; он был сын чеботаря, который в свое время обувал со вкусом целый город. Грабилей, прискуча видеть с младенчества трудную работу отца, задумал блистать в свете совсем иною славою и искал способов, как бы со временем разувать тот народ, который отец его обувал с таким успехом. Для сего-то вступил он в приказную службу. Грабилей был умен; он тотчас понял систему своего звания и начал драть с одних, дабы передавать другим. С таким прекрасным правилом недолго засиделся в нижних званиях и тотчас сделан кадием. На сем-то месте почел он нужным развернуть все свои способности и пользоваться всею уловчивостию, коею природа его одарила. Он тотчас понял трудную науку обнимать ласково того, кого хотел удавить; плакать о тех несчастиях, коим сам был причиною; умел кстати злословить тех, коих никогда не видал; приписывать тому добродетели, в ком видел одни пороки. Знал, когда нужно кланяться в землю и когда в пояс, умел кстати зажмуриваться на своей судейской подушке; но что всего важнее, знал кстати обирать и кстати одаривать. С такими-то блестящими дарованиями пролагал он себе путь к дивану и недолго медлил на сем пути. Калиф уважал способности... Грабилей стал одним из числа знаменитейших людей, снабженных способами утеснять бедных и освященных важным преимуществом получать удавку из рук самого султана. Грабилей так начал речь свою:
«Законный наследник всех имений, неоспоримый владетель сердец и помышлений, повелитель стихий и причина всех бывших и впредь будущих благ человеческого рода! Прости, что я осмеливаюсь шевелить языком моим в присутствии священной твоей особы. Я бы никогда не дерзал при тебе и мыслить, если б не было сие во исполнение верховной твоей воли, которая управляет всеми моими чувствами и делами, подобно как солнечное движение управляет движением тени. Мне кажется, самый лучший способ для удержания в тайне путешествия есть тот, чтоб сделать запрещение говорить, каким бы то образом ни было, о твоей высокой особе и даже выговаривать священное твое имя, под опасением лишения живота и имений. Издав такое повеление, можешь ты спокойно отправиться в свой путь; и хотя некоторое число рабов твоих будет догадываться, что тебя здесь нет, но, в силу запрещения говорить о тебе, они не возмогут никому сообщить своих догадок, ниже простирать вопросами свое любопытство далее. Известно, что молчание есть единственный способ храпения тайностей; так не самое ли лучшее средство — наложить его на языки болтливых рассказчиков и выспрашивателей, которых двумя или тремя примерными наказаниями можно уверить, что язык им дан только для того, чтобы, с помощию его, было легче глотать пищу».
Калиф не был доволен и сим мнением: он сам, любя говорить, знал, как тяжело честному человеку хотя на два часа лишиться этого прекрасного упражнения; притом же, хотя и мог он надеяться унять мужчин, но где, думал он, взять столько силы, чтобы унять говорить женщин? Калиф был премудр: он знал, что выдать закон на удержание говорливости женщин есть то же, что выдать закон для удержания прилива и отлива морского. Он требовал также совета у достальных визирей, наполняющих диван, но их не слушал, не ожидая от них ничего доброго. Калиф был расчетист: обыкновенно одного мудреца сажал между десяти дураков; умных людей сравнивал он со свечами, которых умеренное число производит приятный свет, а слишком большое может причинить пожар; и часто говаривал, что ему, для сохранения доброго порядка, дураки по крайней мере столько ж нужны, как и умные люди. Вот причина, что и диван калифов был ими изобилен.
Все они пошли на голоса: приметить должно, что они охотнее всего расточали свои советы, хотя часто могли видеть, что оные ни на что не надобны; но чем глупее голова, тем щедрее на советы. Наконец, калиф вышел из дивана распустя своих визирей, не быв доволен ни одним голосом, удалился во внутренние свои чертоги и надеялся в уединении найти то, чего не мог сыскать в многолюдстве.
Первый предмет, встретившийся его глазам у него в комнате, была книга, данная ему волшебницею. Хотя Каиб никогда не советовался с книгами, потому что они по большей части писаны не калифами, но, вспомня, что этой книге приписано важное свойство — усыплять, взял он ее в руки, в надежде увидеть во сне добрую свою покровительницу. Калиф развернул — видит оду визирю, недавно повешенному им за взятки... Добродетели его были воспеты с таким восторгом, что калиф зачал уже опасаться, не святого ли он повесил. Это привлекло его к важному рассуждению: сколь должно великому калифу быть осторожну в награждениях и в наказаниях... «Фея, — ворчал он тихонько, — фея, конечно, ошибкою дала мне эту книгу: она обещала мне с нею приятный сон, а книга эта, напротив того, подает мне причину к важным рассуждениям, приличным моему сану и полезным моему народу...» Но калиф не примечал, что он уже дремал, выговаривая последние слова... и действительно, в одну минуту погрузился он в глубокий сон и позабыл награждения, наказания, повешенного визиря, стихотворца и свою книгу, которую из рук выпустил к себе на колени.
Едва заснул калиф, едва увесистое собрание тяжелых стихов, обременявших за минуту руки его, сползло с коленей на богатый ковер, как покровительствующая фея явилась ему во сне. Она была прелестна, как... как то, что тебе всего милее, любезный читатель... Скупой, ты можешь ее сравнить с твоим рублем; если ты автор, то вообрази, что она была так прекрасна, как твои стихи; или вообрази, что она прекрасна, как твоя любовница, — если ты читаешь это накануне своей свадьбы; если же на другой день, то признаюсь, что сравнение мое никуда не годится.
«Каиб, — сказала она калифу, — я выдумала способ сокрыть путешествие твое от народа и от самых визирей твоих. Проснувшись, ступай из дворца твоего, не говоря никому ни слова. Я приготовила куклу и дала ей такие способности, что она, до возвращения твоего, заменит с успехом твое место. Так некогда Аполлон на Троянской брани подменил Энея подделанною под его вид статуею; и между тем как Эней отдыхал Дома, то статуя храбро сражалась с греками; хотя Гомер ничего не говорит, но я знаю точно, что тогда многие славные дела ее приписаны самому Энею, чему он, по сговорчивости своей, никогда не противоречил. То же точно намерена я с тобою сделать. Иди и старайся только исполнить волю оракула; достальное я беру на себя. Поверь: ни одна душа не узнает, как изрядно подменю я тебя статуею из слоновой кости, которая в твое отсутствие наделает много славных дел; все они умножат в народе к тебе благодарность. Прости, калиф, ступай не медля, сложи с себя на время всю пышность, приличную твоему сапу, и ты увидишь то, чего бы никогда не видал ни в какую зрительную трубку с высокого твоего престола, а, наконец, найдешь награждение, обещанное тебе оракулом». Фея исчезла.
Как бедный стихотворец, увидя во сне, что сочинения его вдруг разошлись четырьмя тиснениями и что он осыпан золотом, просыпается, и хотя не видит вокруг себя ничего, кроме огромных своих рукописей и разломанных стульев и стола, но, полагаясь на сновидение, наполняется надеждою, засвечает свечу и, не сходя с постели, гоняется за Пегасом по белой бумаге, которую покрывает следами своей скорости, так Каиб, просыпаясь, утешается, что во сне он выдумал более, нежели наяву, и, надеясь на обещание волшебницы, скидает пышные свои одежды, одевается так скромно, как сторож академической библиотеки, берет несколько мелких денег... Сколь ни верил он волшебствам, но знал очень, что есть много таких случаев, где и самое сильное чародейство наличных денег заменить не может; потом оставляет великолепный свой дворец и начинает поиск, предписанный ему оракулом.
Это было ночью; погода была довольно худа; дождь лил столь сильно, что, казалось, грозил смыть до основания все домы; молния, как будто насмех, блистая изредка, показывала только великому калифу, что он был по колено в грязи и отовсюду окружен лужами, как Англия океаном; гром оглушал его своими порывистыми ударами. Тогда-то калиф в первый раз усумнился, столь ли самовластный он повелитель стихий, как то говаривали ему визири. Желая укрыться от негодной погоды, искал он, при свете молнии, какой-нибудь хижины; скоро, проходя далее, увидел в стороне огонь и пошел прямо на него, надеясь у хозяина выпросить позволения осушить платье.
Калиф подходит к хижине, отворяет дверь, видит большую комнату; в одном углу стоит кровать, в другом стул, который, опираясь о стену щитом, стоял довольно гордо на остальных двух ножках; на полу набросано несколько старых книг и порядочный запас белой бумаги; немудрено калифу догадаться, что тут живет автор. Он всегда любопытствовал побеседовать с людьми этого роду; хотя прежде сияние его сана не дозволяло унижать ему себя до такой степени, но теперь не мог он не радоваться, нашед к тому удобный случай... Я было позабыл, описывая комнату, упомянуть о самом важном приборе: на кровати лежала сухощавая особа; с великою важностию рассматривала она старые рукописи и, казалось, с обгрызанным половину пером в руке, определяла судьбу целого света.
«Милостивый государь, — начал Каиб, — я лишь пришел в сей город и никого в нем не знаю, позволите ли вы страннику пользоваться гостеприимством?». — «Очень рад дорогому гостю! и если, не обижая вас, можно сделать заключение по скромному вашему платью, то позвольте спросить, не ученый ли вы?» — «Да, это правда, что я читаю книги».
«Читаете?.. По вашему разодранному кафтану я подумал, что вы их пишете. Но тем лучше. Я написал теперь оду Ослашиду и хотел бы знать ваше мнение». — «А! вы пишете оды?» — «Да, это самое безопасное ремесло, но не всегда прибыльное. Недавно написал я оду одному вельможе; он восхищался ею и обещал мне щедро заплатить; но, как знатный человек, позабыв данное слово, умер на другой день. После этого я написал оду другому визирю; этот был не менее доволен, обещал меня наградить, и, верно бы, не обманул, но его на третий день повесили за взятки». — «Как, вы писали оду и недавно повешенному визирю? Я ее читал...»
«Признайтесь, что она недурна. Теперь я пишу оду Ослашиду, неприятелю повешенного визиря. Можно сказать, что она мне труда стоит: в этом добром человеке нет ни ума, ни добродетели; такие люди ужасно трудные содержания для лирической поэзии. Я же, не хвастаясь, скажу, что я более пишу для славы, нежели для денег; доказательство — мне хуже платят за оды, нежели за битые стеклы, которые иногда покупают у меня разносчики. Со всем тем я не оставлю лирического стихотворства».
«Мне удивительна способность ваша хвалить тех, в коих, по вашему ж признанию, весьма мало находите вы причин к похвалам». — «О! это ничего, поверьте, что это безделица: мы даем нашему воображению волю в похвалах с тем только условием, чтоб после всякое имя вставить можно было. Ода — как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу. Она имеет здесь совсем другое преимущество, нежели сатира. Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то должен обыкновенно трафить на порок, коему он более подвержен; но и тут принужден часто входить в самые мелкости, чтобы он себя узнал, что до оды, то там совсем другой порядок: можно набрать сколько угодно похвал, поднести кому угодно; и нет визиря, который бы описания всех возможных достоинств не принял сколком с своей высокой особы».
«Но если свет знает, что ваше описание ложно, что герои ваши — пустые пузыри, надутые вами?» — «Что же до того нужды? Аристотель негде очень премудро говорит, что действия и героев должно описывать не такими, каковы они есть, но каковы быть должны,— и мы подражаем сему благоразумному правилу в наших одах, иначе бы здесь оды превратились в пасквили; итак, вы видите, сколь нужно читать правила древних».
«Я всегда думал, что стихотворцы приступают к одам, воспаленные добродетелями и совершенствами своих героев». — «Как вы ошибались: они воспаляются одним воображением и выбирают первого, кто попадется, как художник выбирает кусок мармору; чем грубее и несовершеннее отломок, тем более славы и искусства дать ему нежный вид». — «Ах! — сказал, вздохнувши, калиф, — как же мало люди должны гордиться такими похвалами, которые нередко их ослепляют!»
«Вольно им дурачиться, — отвечал стихотворец; — если бы они приписывали похвалы не своим достоинствам, но случаю и нашей необходимости кого-нибудь ими украшать, то бы не столь были горды. Не хотите ли, я вам скажу на этот случай короткую баснь, которую скоро намерен переложить в стихи?
Славный живописец, пленясь новою мыслью, вздумал написать Венеру, натянул кусок полотна и с великим успехом исполнил свое намерение; картина была драгоценна и со временем стала украшением чертогов славнейшего императора. Множество зрителей стекалось ее смотреть. Полотно, на коем была написана Венера, вздумало, что оно причиною всех восторгов, примечаемых в зрителях. Паук, раскидывая на нем сети для мух, вывел его из заблуждения. «Ты напрасно гордишься, полотно, — сказал он, — если б не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то бы ты давно истлело, быв употреблено на отирку посуды».
Стихотворцы то же делают с людьми, и последние такую же имеют причину гордиться, как рисованная холстина, которая думала, что живописец старался прославить ее, когда заботился он только о своем имени. Когда я читаю Гомера, то, признаюсь, вместо того, чтобы удивляться его героям, я удивляюсь ему, а на них смотрю, как на людей, которых великий этот муж сделал вьючными ослами своей славы; итак, не ясно ли видно... по вы дремлете, вам нужен покой! Не хотите, ли чего поужинать?»
«Охотно бы; признаюсь, что я очень проголодался». — «Жаль же очень, что вы не пришли ко мне ранее только пятью минутами: мы бы прекрасно отужинали. По крайней мере, на чем вы охотнее спите: на тюфяках или на пуховике?» — «На пуховиках», — сказал, вздохнувши, калиф.
«Ложитесь же на эти кипы печатных бумаг, — отвечал стихотворец, указывая в угол, — ложитесь на них; если они и не так мягки, как пуховики, по крайней мере, толще всякого пуховика на свете. Мои друзья ночуют у меня на них спокойнее, нежели калиф наш на лучших своих пуховиках».
Каиб лег, положил в голову стопу бумаги и в минуту захрапел так крепко, что соблазнил стихотворца себе последовать.
На другой день рано Каиб собрался в путь.
«Вы, конечно, хотите странствовать?» — спрашивал его стихотворец.
«Это правда. И хотя нет двух дней, как я начал свое путешествие, но мне столь это понравилось, что, может быть, несколько лет употреблю я на то, чтобы видеть вещи, которые, сидя дома, видел я через десятые глаза».
«Вы ничего нового не увидите. Где есть люди, там всегда найдете добродетели и пороки; где есть деньги, там найдете роскошь и скупость, богатство и нищету; в городах увидите равнодушие к несчастию ближнего, в деревнях сострадание и гостеприимство, ибо сельский житель, подражая природе, учится у нее быть податливым, а городской житель, гоняясь за счастием, учится у него быть слепым и несправедливым». После сего они расстались, и Каиб продолжал свой путь.
Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостию посмотреть сельских жителей. Давно уже, читая идиллии и эклоги, желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях; давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал: «Если б я не был калифом, то бы хотел быть пастушком».
Уже далеко был он от своей столицы, как в один день увидел рассеянное по полю стадо. — «Великий Магомет! — вскричал он, — я нашел то, чего давно искал!» — и сошел с дороги в поле искать счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком. Калиф искал ручейка, зная, что пастушку так же мил чистый источник, как волоките счастия передние знатных; и действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усумнился, человек ли это; но, по босым ногам и по бороде, скоро в том уверился. Вид его был столько же глуп, сколь прибор его беден.
«Скажи, мой друг, — спрашивал его калиф, — где здесь счастливый пастух этого стада?» — «Это я», — отвечало творение и в то же время размачивало в ручейке черствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать. «Ты пастух! — вскричал с удивлением Каиб — О! ты должен прекрасно играть на свирели». — «Может быть; но, голодный, не охотник я до песен». — «По крайней мере, у тебя есть пастушка; любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою?» — «Она поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников». — «Но поэтому жизнь ваша очень не завидна?» — «О! кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас». — «Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям, — сказал калиф. — Фея! слова твои сбываются: я вижу то, чего бы никогда не подозревал. Стихотворец сказал правду, что поэты обходятся с людьми, как живописцы с холстиною. Но такую гадкую холстину, — продолжал он, смотря на пастуха, — такую негодную холстину разрисовать так пышно... Это, право, безбожно! О! теперь-то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных музульман». И калиф пошел далее.
Некогда под вечер шел он по большой дороге, и хотя уже начинало смеркаться, но никакого города не видно было вдали. Это его смущало. «Волшебница шутит надо мною, — говорил он сам себе, — она, кажется, хочет, чтоб я, подобно календеру, состарелся на больших дорогах. Вот уже более трех месяцев странствую я, но и тени нет счастия, обещанного мне феею; а что еще досаднее, то сегодня едва ль не в поле должен я ночевать. Я верю, конечно, что пророк любит своего потомка; но сказать правду: медведю из лесу до меня ближе, нежели Магомету с седьмого неба». Такие мысли возмущали Каиба: владетель морей и суши не на шутку боялся быть заеден голодным волком.
В самое то время занимался он такими заманчивыми рассуждениями, встретился ему крестьянин. «Друг мой, далеко ли до города?» — спросил у него калиф. «Часов восемь; к утру можешь ты там быть». — «Но нет ли где переночевать, не попадется ли мне на пути деревня?» — «Ни двора; а если хочешь, то, прошед немного, можешь свернуть по тропинке вправо и лесом, через старое кладбище, пройти до деревеньки, где можешь найти ночлег».
Прошед немного, и действительно Каиб увидел вправе тропинку, проложенную в лес; он пошел по ней и в четверть часа выбрался на маленькую площадку, украшенную развалившимися гробницами. Каибу некогда было любопытствовать: страх и приближающаяся ночь понуждали его итти далее; как вдруг, прошед площадку, увидел он, что тропинка разделилась на-двое. «Боже мой! — вскричал Каиб, — по которой должен я итти? Ну, если я выберу самую трудную и долгую, тогда всего вернее, что мне должно будет спать на земле, без всякого защищения от зверей; но если я ворочусь — а до города еще восемь часов!.. это ужасно! Нет, — продолжал он, окидывая глазами кладбище, — нет, я лучше соглашусь как-нибудь провести ночь здесь»,— и тогда ж, увидя высокий надгробный камень, решился он выбрать его своим ночлегом. Каиб подошел ближе к камню и увидел на нем высеченные сии слова: «Кто бы ты ни был, не приближайся; взирай с благоговением на камень, под коим покоится прах мой, и познай, что я... (имя так изгладилось временем, что Каиб никак не мог разобрать)... победитель вселенной, коего имя гремит и вечно будет греметь во всех концах земли: оружием моим покорил я множество пародов, одержал 729 побед и не имел сражения, на коем бы побито было менее 15 000 неприятелей. Свет сей оставляю в законное наследство сыну моему и его потомкам. Умираю доволен, что основал племени моему твердое и неколебимое наследие, сокровища неисчерпаемые, славу бессмертную, и страх имени моего столь великий, что не будет смертного, который бы осмелился коснуться до моего надгробного камня».
«Какая прекрасная надпись! — сказал Каиб и вскарабкался с великим трудом на камень. — Здесь точно безопасно,— ворчал он тихонько,— камень этот и высок и неприступен для зверей... только желал бы я очень знать, чья эта гробница. Это ужасно, что такие славные имена стираются с надгробных камней! Как же после этого можно полагаться на историю, ибо я твердо верю, что тысячи славных людей, понаделавших столько же знаменитых дел, как и нынешний мой хозяин, не внесены в историю только для того, что надгробные их камни были рыхлы и удобно размывались дождем. Какой это для меня прекрасный урок! О! я, конечно, выберу для моего надгробия камень потверже и ручаюсь, что слава моя будет продолжительнее славы моего хозяина». Потом вынул Каиб из кармана хлеб и кусок сыру; в минуту отправил он по-походному ужин. «Как мало нужно для человека! — сказал калиф, — на день два фунта хлеба и три аршина земли на постелю при жизни и по смерти! Я бы желал знать, отчего, за четыре месяца перед сим, вся вселенная казалась для меня тесна, а теперь и камень этот для меня очень просторен? И слово «моё», на которое право стоило мне, может быть, 300000 добрых музульман, — слово это теперь меня не восхищает! О, гордость, сколь ужасно тебе воздаяние! при жизни тебя ненавидят, по смерти презирают или забывают. Ах! может быть, и я со временем буду служить постелею какому-нибудь страннику, который, не посмотря на гордую мою надгробную надпись, спокойно выспится на том, на кого предки его не смели взглянуть без ужаса». Каиб заснул. Вдруг видит он, что камень отодвигается и из-под него выходит величественная тень некоего древнего героя.
Рост его возвышался дотоле, доколь в тихое летнее время может возвышаться тонкий дым. Каков цвет облак, окружающих луну, таково было бледно лицо его. Глаза его были подобны солнцу, когда, при закате своем, опускается оно в густые туманы и, изменяясь, покрывается кровавым цветом. Главу его покрывал огромный шлем, который, казалось, мог противустоять громовым ударам. Руку его обременял щит, испускающий тусклый свет, подобный тому, какой издает ночью зыблющаяся вода, отражая мертвые лучи бледных звезд. Калиф тотчас догадался, что герой его из числа тех знаменитых особ, которые называются победителями народов и на земном шаре с великим успехом заменяют собою всемирный потоп. Он молчал и ожидал, что будет далее.
«Каиб! — сказало ему видение, — ты зришь пред собою тень того, коего прах покоится под сим камнем. Надпись о делах моих, высеченная на камне, справедлива: я победил весь свет; ничто не смело вооружаться против меня, кроме моей совести, которая одна могла мучить того, кто мучил вселенную. По смерти моей небо истребило память мою в людях, а меня осудило мучиться дотоль, доколь не буду я причиною хотя одного доброго дела. 20 000 лет уже гробница моя стоит здесь, и во все это время не был я причиною ни одного доброго дела. Доколе память моя еще не затмилась, дотоле возбуждал я себе последователей, столько же вредных свету, как был вреден ему я сам. Память моя погибла; но мои последователи имели также своих подражателей, и всем бедствиям, угнетавшим после того землю, был причиною я, дав первый пример любочестия. Наконец, небо избрало тебя быть моим избавителем: ты, делая последнее унижение моей гордости, надгробие мое сделал своим ночлегом. Высокий камень мой спас тебя от хищных зверей, коим бы ты был непременно добычею в сем диком лесу — и вот первая польза, которая в 20 000 лет от меня произошла.
Гробница моя и надпись на ней внушили тебе благоразумные размышления; сердце твое удобно ими пользоваться, а сии размышления в толь великом калифе, каков ты, будут причиною счастья миллионов людей, — вот благо, происшедшее также от меня. Судьба исполнила меру своего правосудия: в сей день кончились мои мучения. Небо, разрешая меня, позволило, чтоб я принес тебе благодарность; позволило оно, чтобы я тебе подтвердил истину надписи, запрета только сказывать свое имя, осужденное к вечному забвению на лице земли; позволило оно также сказать тебе, что ты близок от вещи, для которой путешествуешь; счастие тебя ожидает. Но, калиф, да не развратит нега его твое сердце — не забывай никогда того, что ты видел теперь. Помни, что любочестие наказывается чрезмерным унижением; помни, что право твоей власти состоит только в том, чтобы делать людей счастливыми, — сие право дают тебе небеса; право же удручать несчастьями похищаешь ты у ада». Изрекши сие, изменяться стала тень и исчезать, подобно тускнеет сребристое облако, когда луна от него удаляется и, развеваемое по лазуревому небу, становится невидимо взорам смертных.
Наутро калиф проснулся рано и, дивясь странному сновидению своему, продолжал свой путь по одной из двух тропинок. Три часа шел он дремучим лесом и, наконец, вышел на прекрасный луг, через который лежала дорога к маленькой хижине. Каиб любовался местоположением и, осматривая окрестности, удивлялся природе, как вдруг, оборотясь направо, увидел прекрасную четырнадцатилетнюю девушку. Она с великою прилежностию искала чего-то в траве; прекрасные глаза ее орошены были слезами, — знак, сколь дорого она ценила потерянную вещь. Каиб подошел к пей; она его не примечала; он не спускал с нее глаз: всякая черта, всякое движение, всякий шаг ее воспламеняли в нем кровь. Каиб обладал многими женщинами, он чувствовал иногда сильные желания, но теперь в первый раз узнал, что такое любовь.
«Иностранец, — сказала ему красавица, увидя его, — не находил ли ты здесь портрета? Ах! если он у тебя, так возврати Роксане то, что ей дороже жизни». — «Нет, прекрасная Роксана, — отвечал калиф, — судьба не хотела наградить меня счастием быть тебе полезным...» — Калиф бы далее продолжил свои учтивости, но прекрасная его незнакомка, не выслушав и сих, отошла от него искать портрета. Калиф, не говоря ни слова более, сам стал шарить в траве. Надобно было посмотреть тогда величайшего калифа, который, почти ползая, искал в траве, может быть, какой-нибудь игрушки, чтобы угодить четырнадцатилетнему ребенку. Он был так счастлив, что в минуту нашел потерю. «Роксана! Роксана! портрет!» — кричал он, показывая ей издали портрет.
Она уже была от него далеко, как, услыша сей голос, бросилась к нему из всей силы. Радость, торопливость и нетерпение сделали то, что она запуталась в траве и упала бы, если б не поддержал ее Каиб. Какое приятное бремя чувствовал он, когда грудь Роксаны коснулась его груди! Какой жар разлился по всем его жилам, когда невинная Роксана, удерживаясь от падения, обхватила его своими руками, а он, своими поддерживая легкий и тонкий стан ее, чувствовал сильный трепет ее сердца. «Возьми, прекрасная Роксана, сей портрет, — говорил ей Каиб, — и вспоминай иногда сей день, который возвратил тебе драгоценную потерю, а меня навсегда лишил вольности». Роксана ничего не говорила, но прелестный румянец, украсивший ее лицо, изъяснял более, нежели бы она могла сказать. «Незнакомец, — сказала она Каибу, — посети нашу хижину и дозволь, чтоб я отцу моему показала того, кто возвратил мне потерянный мною портрет моей матери».
Они вошли в дом, и Каиб увидел почтенного старца, читающего книгу. Роксана рассказала ему приключение, и старик не знал, как отблагодарить Каиба. Его просили остаться у них на день, — можно догадаться, что он не отказал; этого мало: чтобы пробыть долее, он притворился больным и имел удовольствие видеть, сколь Роксана о нем сожалела и как старалась оказывать ему угождения... Может ли любовь долго скрываться? Оба они узнали, что они любимы взаимно; старик усмотрел их страсть: множество на этот случай насказал он прекрасных нравоучений, но чувствовал, сколь они бесплодны; и сам Каиб, который с восхищением видал, как прекрасная Роксана чувствительна была ко нравоучениям и как нежное сердце ее уважало добродетель, — сам Каиб не хотел бы, чтобы теперь слушала она нравоучения противу любви. Старик, любя дочь свою и пленясь добросердечием, скромностию в благоразумием Каиба, решился отговорить его от охоты к странствию и умножить его семейство.
Роксана просила его нежно, чтобы предпочел он спокойную жизнь и любовь ее — желанию скитаться. «Ах! Гасан, — сказала она ему некогда, — если б знал ты, как ты мне мил, то бы никогда не оставил нашей хижины ни для великолепнейших чертогов в свете... Я люблю тебя столько, сколько ненавижу Каиба нашего». — «Что я слышу? — вскричал калиф, — ты ненавидишь Каиба!» — «Да, да, я его ненавижу столько же, сколько тебя люблю, Гасан! Он причиною наших несчастий; отец мой был кадием в одном богатом городе; он исполнял со всею честностию свое звание; некогда, судя родню одного царедворца с бедным ремесленником, решил он дело, как требовала справедливость, в пользу последнего. Обвиненный искал мщения; он имел при дворе знатную родию; отец мой был оклеветан; поведено отнять у него имение, разорить до основания дом его и лишить жизни. Он успел убежать, подхватя меня на руки. Мать моя, не перенеся сего несчастия, умерла в третий месяц после нашего сюда переселения, а мы остались, чтобы докончить здесь жизнь в бедности и в забвении от всего света».
«Оракул, ты исполнился! — вскричал калиф. — Роксана, ты меня ненавидишь!..» — «Что с тобою сделалось, Гасан? — прервала смущенная Роксана, — не тысячу ли раз говорила я тебе, что ты мне дороже моей жизни. Ах! во всем свете я ненавижу одного только Каиба». — «Каиба! Каиба! Ты его любишь, Роксана, и возводишь своею любовью на вышний степень блаженства!» — «Дорогой мой Гасан сошел с ума! — говорила тихонько Роксана, — надобно уведомить батюшку». Она бросилась к своему отцу: «Батюшка! батюшка! — кричала она,— помогите! бедный наш Гасан помешался в уме», — и слезы навертывались на ее глазах. Она бросилась к нему на помощь, но уже было поздно: Гасан их скрылся, оставя их хижину.
Старик сожалел о нем, а Роксана была неутешна. «Небо! — говорил старик,— доколе не престанешь ты гнать меня? Происками клеветы лишился я достоинств, имения, потерял жену и затворился в пустыне. Уже начинал я привыкать к моему несчастию, уже городскую пышность воспоминал равнодушно, сельское состояние начинало пленять меня, как вдруг судьба посылает ко мне странника; он возмущает уединенную нашу жизнь, становится любезен мне, становится душою моей дочери, делается для нас необходимым и потом убегает, оставя по себе слезы и сокрушение».
Роксана и отец ее проводили таким образом плачевные дни, как вдруг увидели огромную свиту, въезжающую в их пустынь. «Мы погибли! — вскричал отец, — убежище наше узнано! Спасемся, любезная дочь!..» Роксана упала в обморок. Старик лучше хотел погибнуть, нежели, ее оставить. Между тем начальник свиты к нему подходит и подает ему бумагу. «О, небо! не сон ли это? — вопиет старик, — верить ли глазам моим? Мне возвращается честь моя, дается достоинство визиря; меня требуют ко двору!» — Между тем Роксана опомнилась и слушала с удивлением речи своего отца. Она радовалась, видя его счастливым, по воспоминание о Гасане отравляло ее радость; без него и в самом блаженстве видела она одно несчастие.
Они собрались в путь, приехали в столицу. Повеление дало представить отца и дочь калифу во внутренних комнатах. Их вводят. Они падают на колени; Роксана не смеет возвести глаз на монарха, и он с удовольствием видит ее печаль, зная причину оной и зная, как легко может он ее прекратить.
«Почтенный старец! — сказал он важным голосом, — прости, что, ослепленный моими визирями, погрешил я противу тебя: погрешил против самой добродетели. Но благодеяниями моими надеюсь загладить мою несправедливость, надеюсь, что ты простишь меня. Но ты, Роксана, — продолжал он нежным голосом, — ты простишь ли меня и будет ли ненавидимый Каиб столь счастлив, как был счастлив любимый Гасан?»
Тут только Роксана и отец ее в величайшем калифе узнали странника Гасана. Роксана не могла ни слова выговорить: страх, восхищение, радость, любовь делили ее сердце. Вдруг явилась в великолепном уборе фея.
«Каиб! — сказала она, взяв за руку Роксану и подводя к нему, — вот то, чего недоставало к твоему счастию; вот предмет путешествия твоего и дар, посылаемый тебе небом за твои добродетели. Умей уважать его драгоценность, умей пользоваться тем, что видел ты в своем путешествии — и тебе более никакой нужды в волшебствах не будет. Прости!» При сем слове взяла она у него очарованное собрание од и исчезла.
Калиф возвел Роксану на свой трон, и супруги сии были столь верны и столь много любили друг друга, что в нынешнем веке почли бы их с ума сшедшими и стали бы на них указывать пальцами.
Комментарии
Напечатано в «Зрителе», 1792, ч. III, стр. 90-108, 257-306. По своей восточной манере эта повесть Крылова напоминает сатирические «восточные повести» Вольтера («Белый бык», «Царевна Вавилонская»), а также «Персидские письма» Монтескье, которые пользовались условно-восточным колоритом для прикрытия резкости своей сатиры, обличавшей нравы современного общества. В описаниях Каибова государства, вельмож, отношений Каиба к ученым и писателям содержится ряд едких намеков на екатерининское царствование.
Шемела — святочная игра, бег взапуски на корточках с пением песни о шемеле (метле).
Бегло читали по толкам — по складам.
Именины Касьянов — отмечались раз в четыре года (в високосном году).
Термопилы — при Фермопилах в 481 году до н. э. произошла битва греков с персами.
Скоропостижные вирши — экспромты.
Диван — государственный совет у восточных властителей.
Кадий — судья.
Аристотель... говорит... — Речь идет о «Поэтике» Аристотеля, основные положения которой легли в основу эстетики классицизма.
Калиф искал ручейка. — Это место пародирует сентиментально-идиллическое описание крестьян у Карамзина и его последователей.
Календер — нищенствующий восточный монах, дервиш.
|
|


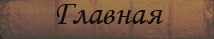

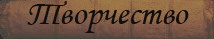 <>Пьесы
<>Пьесы